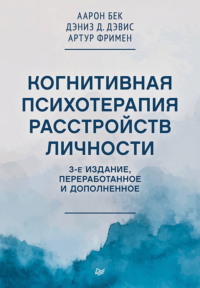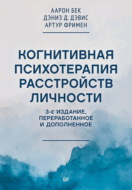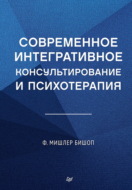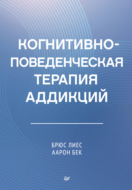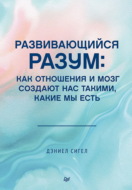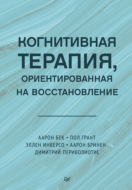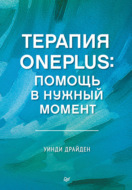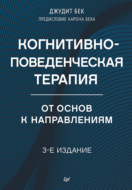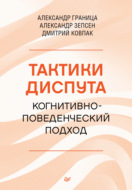Czytaj książkę: «Когнитивная психотерапия расстройств личности», strona 5
Эволюция межличностных стратегий
Наше представление о личности принимает во внимание роль нашей эволюционной истории в формировании паттернов мышления, чувств и действий. Мы можем лучше понять структуры, функции и процессы личности, если исследуем отношения, чувства и поведение в свете их возможной связи с этологическими стратегиями.
Поведение животных по бо́льшей части расценивается как «запрограммированное». Основные процессы их жизни запрограммированы и выражены в поведении. Развитие этих программ часто зависит от взаимодействия генетически обусловленных структур и опыта. Можно предположить, что подобные связанные с развитием процессы происходят и с людьми (Gilbert, 1989). Вполне вероятно, что давно сформировавшиеся когнитивно-аффективно-мотивационные программы влияют на наши автоматические процессы: интерпретацию событий, содержание чувств и образ действий. Программы, вовлеченные в обработку информации, эмоциональные процессы, побуждения и мотивация, возможно, когда-то сформировались в результате того, что они способствуют поддержанию жизни и размножению.
По мере того как человек проходит каждый этап своей жизни, он сталкивается с различными вызовами и проблемами, а также стимулами и возможностями. Человек рождается с целым рядом потребностей: в еде, защите и поддержке, которые сохраняются на протяжении всей его жизни. Эти запрограммированные потребности выражаются в форме влечений, стремлений и побуждений, которые требуют удовлетворения. Человек стремится также не только получить все необходимое ему для жизни, но и сохранить человеческие ресурсы, необходимые для выживания и успеха в конкурентной, а иногда и враждебной среде. Наряду с автоматическими защитными реакциями, такими как «бей – беги», у людей есть врожденные структуры для восприятия и реагирования на менее непосредственные угрозы и потребности. Автоматические стратегии в младенчестве, такие как плач и улыбка, например, вызывают реакцию заботы со стороны воспитателей.
В соответствии с требованиями эволюции, связанными с выживанием и сохранением своего генетического наследия, человек запрограммирован не только испытывать разнообразные желания, стремления и побуждения, но и заботиться о тех, кто заботится о нем, а на более высоком уровне развития – и о потенциальном партнере. Активизация тех или иных потребностей частично зависит от доступности человеческих ресурсов. В младенчестве присутствие воспитателя является катализатором для выражения потребности в заботе. Эта потребность в измененной форме сохраняется на протяжении всей жизни.
Естественный отбор, по-видимому, привел к некоторому соответствию между запрограммированным поведением и требованиями окружающей среды. Однако окружающая среда изменилась быстрее, чем наши автоматические адаптивные стратегии – в значительной степени в результате изменений социальной среды. Так, хищнические стратегии, конкуренция и стайность, которые были полезны в примитивной среде, не всегда вписываются в существующую нишу высокоиндивидуализированного и технологического общества с его специализированной культурной и социальной организацией. Это несоответствие может стать причиной развития поведения, которое мы диагностируем как «расстройство личности».
Независимо от их ценности для выживания в более примитивных условиях некоторые из этих эволюционно сформировавшихся паттернов становятся источником проблем в существующей культуре, потому что сталкиваются с личными целями человека или вступают в конфликт с групповыми нормами. Так высокоразвитые стратегии, связанные с хищническим образом жизни или конкуренцией, которые способствовали выживанию в примитивных условиях, вряд ли подходят для нынешнего социального окружения и, как правило, заканчиваются «антисоциальным расстройством личности». Точно так же некоторые эксгибиционистские проявления, которые привлекли бы других особей для помощи или спаривания в дикой природе, чрезмерны и неадекватны в современном обществе. Эти паттерны, если они негибки и плохо контролируемы, скорее всего, создадут проблемы.
Синдром как совокупность симптомов может быть также концептуализирован с точки зрения эволюционных принципов. Например, паттерн «бей – беги», возможно адаптивный в архаичных условиях крайней физической опасности, сейчас может стать почвой либо для тревожного расстройства, либо для хронического враждебного состояния. Например, паттерн реагирования, который активизировался при виде хищника, также мобилизуется при угрозе психологических травм из-за отвержения или обесценивания (Beck & Emery with Greenberg, 1985). Когда эта психофизиологическая реакция – восприятие опасности и возбуждение автономной нервной системы – вызвана воздействием широкого спектра потенциально негативных межличностных ситуаций, у человека уязвимого может проявиться диагностируемое тревожное расстройство.
Аналогичным образом вариативность/изменяемость/переменчивость генофонда может объяснять индивидуальные личностные различия. Так, один человек может замирать при виде опасности, другой – нападать, третий – избегать любых потенциальных источников опасности. Эти различия в поведении и стратегиях, любая из которых может иметь ценность для выживания в некоторых ситуациях, отражают относительно устойчивые характеристики, которые типичны для определенных «типов личности» (Beck et al., 1985). Чрезмерное развитие этих паттернов может вести к расстройству личности; например, избегающее расстройство личности может отражать стратегию ухода или избегания в любой ситуации, связанную с возможностью социального неодобрения.
Ресурсы
Основной путь к удовлетворению жизненных потребностей лежит через общение с другими людьми. С другой стороны, каждый из нас полагается на собственные возможности, чтобы самостоятельно решать проблемы повседневной жизни. Однако человек жаждет признания как со стороны своих близких, так и референтной группы. Тот факт, что отвержение так сильно сказывается на нас, свидетельствует о важности межличностных связей. Зависимость от отношений с близкими людьми и группой, по-видимому, является мощным эволюционировавшим компонентом врожденных влечений. В первобытном обществе принятие, изгнание или интеграция в племя имели решающее значение для привилегий, питания и размножения.
Человек также извлекает выгоду из собственных унаследованных ресурсов, чтобы максимально использовать ресурсы внешние, а также функционировать автономно. Различные права играют огромную роль для людей, стремящихся получить доступ к ресурсам. Лица, обладающие высоким статусом и привилегиями, имеют на это право, что обеспечивает им безопасный доступ к ресурсам и защиту от возможного вреда. Быть высоко на тотемном столбе означает не только быть «высшей личностью», но также это подразумевает право на совершенно другую жизнь в обществе, где больше гарантий для получения удовольствий, боль сведена к минимуму, а вероятность размножения более высока.
Существуют и другие формы права, помимо статуса. Например, ребенок может чувствовать, что имеет право рассчитывать на заботу своих родителей. Супруг/супруга может ощущать себя вправе на близость, интимные отношения, поддержку и так далее со стороны партнера. Менее тесные отношения (или ограниченные ресурсы) означают ослабление права. Тот, кто изгнан из сообщества или отвергнут любовником, больше не имеет права на преимущества, которые приносили эти отношения.
Права и привилегии связаны с прочностью связей с другими людьми и группами. Имея связь с группой, человек имеет право на поддержку группы. В случае очень сильной связи с другим человеком он или она также чувствует это право. В целом стремление к получению тех или иных прав является мощной движущей силой в попытках человека укрепить связь с другими людьми или повысить свой статус в отношениях с ними с целью реализации эмоциональной и физической безопасности.
Стратегии
Почему мы применяем термин «стратегия» к характеристикам, которые традиционно назывались «чертами личности» или «паттернами поведения»? Стратегии в этом смысле могут рассматриваться как формы запрограммированного поведения, предназначенного для обслуживания биологических целей. Хотя этот термин подразумевает наличие сознательного, рационального плана, он используется здесь скорее не в этом смысле, а в том, в котором его используют этологи, чтобы обозначить стереотипные формы поведения, которые способствующие индивидуальному выживанию и воспроизведению себе подобных (Gilbert, 1989). Эти паттерны поведения могут рассматриваться как имеющие конечной целью выживание и размножение: «репродуктивная эффективность» или «инклюзивная приспособленность». Эти эволюционные стратегии были описаны 200 лет назад Эразмом Дарвином (Darwin, 1791; цит. по: Eisely, 1961), дедом Чарлза Дарвина, как выражение голода, жажды и чувства безопасности.
Хотя животным неведома конечная цель этих биологических стратегий, они осознают субъективные состояния, которые отражают их образ действий: голод, страх или сексуальное возбуждение, а также вознаграждение и наказание за их удовлетворение или неудовлетворение (удовольствие или боль). Мы едим, чтобы унять чувство голода и получить удовлетворение. Мы вступаем в сексуальные отношения, чтобы уменьшить сексуальное напряжение и получить наслаждение. Мы вступаем в «связь» с другими людьми, чтобы уменьшить чувство одиночества, а также получить удовольствие от дружбы и близости. В целом, когда мы испытываем внутреннее давление, побуждающее нас удовлетворять некоторые сиюминутные желания (например, получение удовольствия и уменьшение напряжения), мы можем, по крайней мере в какой-то степени, достигать долговременных эволюционных целей.
У людей термин «стратегия» аналогично применяется к формам поведения, которые могут быть либо адаптивными, либо дезадаптивными, в зависимости от обстоятельств. Эгоцентризм, дух соперничества, эксгибиционизм и избегание неприятных переживаний вполне могут быть адаптивны в одних ситуациях, но крайне дезадаптивны в других.
Люди обладают набором врожденных стратегий, позволяющих им использовать и расширять межличностные ресурсы. Каждая из этих стратегий представляет часть личности, обычно называемую чертой характера. Любая из этих стратегий (или черт) формируется с учетом использования соответствующих ресурсов. Стратегии активизируются в ответ на различные желания, стимулы и побуждения и подкрепляются удовольствием, когда побуждение удовлетворяется. С другой стороны, провал стратегии сопровождается болью. Например, принятие романтическим партнером вознаграждается удовлетворением, а отказ – страданием.
Хотя существует множество потенциально дезадаптивных стратегий (например, таких, как покорность, агрессивность и застенчивость), они не достигают уровня, который позволил бы включить их в официальные системы классификации в качестве расстройств личности. Стратегии позитивного характера (например, доброта, великодушие и самопожертвование) вряд ли смогут трансформироваться в расстройства личности, даже если будут преувеличены. Стратегии, которые становятся расстройствами личности, являются негибкими, чрезмерно обобщенными и навязчивыми. Эти гипертрофированные стратегии мешают приспособиться к окружающим и снижают общее состояние. Кроме того, расстройство может проявляться, когда возникают определенные негибкие стратегии в отсутствие других сдерживающих стратегий. Например, нарциссизм может развиться, когда усиливаются конкурентные стратегии без сдерживающих элементов эмпатии и социальной взаимности.
На рис. 2.1 представлена иллюстрация эволюционной модели развития расстройств личности и симптомов/синдромов. Адаптивные усилия по достижению основных целей могут стать чрезмерно развитыми в некоторых случаях, что приводит к неадаптивному прогрессированию тех или иных расстройств. Сверхразвитые стратегии закладывают основу расстройства личности и влияют на оценки риска и потерь, повышая уязвимость к тревоге и аффективным расстройствам. С развитием симптоматического расстройства основное когнитивное содержание схем становится более укорененным и заметным, таким образом укрепляя когнитивную основу расстройства личности.
Чтобы детализировать модель расстройств личности, их можно сгруппировать в соответствии с их основными ресурсами: межличностные (социально ориентированные) или индивидуалистические (автономно ориентированные), как показано в табл. 2.1. Преобладающие драйвы7 включают в себя конкуренцию, привязанность, привлечение к себе внимания, защиту, контроль, поддержку и критику. Они выполняют одну из двух основных функций – расширение и защиту личных ресурсов или территории – и связаны с врожденными стратегиями. Стратегии уникальны и используются в качестве диагностики для наблюдения и понимания эволюционной функции каждого расстройства.
Из расстройств, основной целью которых является расширение личной территории, нарциссическое расстройство характеризуется стратегией, направленной на то, чтобы превзойти других в статусе, а также стремлением к саморекламе и требует особого подхода в терапии. Цель привязанности достигается через утверждение потребностей и получение удовольствия (зависимое расстройство личности), привлечение к себе внимания и стремление развлекать других (гистрионное расстройство). Люди с антисоциальным расстройством личности преследуют цель расширения своей сферы деятельности с помощью стратегий конкуренции, в чем-то схожих со стратегиями нарциссической личности. Они рассматривают других как честную добычу для эксплуатации, как объекты физических нападок и лишения их того, чем они обладают, но при этом своей отстраненностью от общественного мнения, что резко контрастирует с нарциссической личностью, и кажутся более индивидуалистичными. Люди с обсессивно-компульсивным расстройством полагаются на внутренние системы контроля и оценки для расширения своей личной сферы. Способность к решению проблем и эффективность являются адаптивными, когда используются должным образом, и представляют проблему в гипертрофированном виде.

Рис. 2.1. Цели, стратегии, оценка и расстройства
Таблица 2.1. Эволюционная модель расстройств личности

Из расстройств, характеризующихся стремлением к безопасности, избегающее расстройство личности можно рассматривать с точки зрения стратегии защиты от сложных социальных ситуаций и потенциального обесценивания. С другой стороны, человек с этим расстройством жаждет отношений с другими людьми, что делает его особенно чувствительным к потенциальному отвержению, критике или насмешкам. Они избегают ситуаций, в которых не чувствуют себя в полной безопасности. Что интересно, факторный анализ Анкеты убеждений личности показывает общий фактор для избегающих и для зависимых расстройств личности (Fournier, DeRubeis, & Beck, 2011).
Параноидное расстройство личности характеризуется защитной реакцией. Это представляет собой преувеличение нормального процесса бдительности и защиты от потенциально опасных людей. Пациенты с этим нарушением пользуются собственными ресурсами для удовлетворения своих потребностей и склонны персонифицировать угрозы и атаковать в случае возможного вторжения на их территорию. Изоляция – главная черта шизоидного расстройства личности. Для этих людей характерно отсутствие интереса к другим людям и стратегия эмоциональной и физической отстраненности и отчужденности. Люди с шизотипическим расстройством во многом похожи как на людей с параноидным расстройством, так и на шизоидов, хотя их стратегии в высшей степени своеобразны и социально необычны. Пограничное расстройство, по-видимому, проявляется в моделях поведения, характерных для широкого спектра расстройств личности, вызывающих противоречивые побуждения и серьезный дистресс. И два расстройства не включены в табл. 2.1. При этом пассивно-агрессивную личность и депрессивную личность мы включаем в концептуализацию клинически значимых расстройств. И в том и в другом случае можно наблюдать, что человек полагается на автономные ресурсы и движим целью защиты своих владений посредством контроля с помощью косвенного сопротивления или аргументации (пассивно-агрессивный) или критики, уединения и размышлений (депрессивный).
Также может быть целесообразно рассмотреть концепции интернализации и экстернализации при наблюдении клинических признаков различных стратегий. Стратегии интернализации обычно включают торможение и чрезмерный контроль, в то время как стратегии экстернализации отражают спонтанное или экспрессивное поведение, которое не находится под контролем (например, импульсивное, реактивное, гиперактивное, агрессивное). Как отмечает Фурнье (глава 3), эти измерения независимы, и вполне возможно, что некоторые стратегии расстройства личности являются экстернализирующими/недостаточно контролируемыми (например, антисоциальное, гистрионное), а другие – интернализуются/сверхконтролируются (например, избегающее, депрессивное). Некоторые расстройства могут отражать низкий уровень как интернализующих, так и экстернализующих черт (например, шизоидность) или высокий уровень и того, и другого (например, пограничный, пассивно-агрессивный). Групповое совпадение по основным ресурсам (автономным или социотропным) является лишь частичным и предполагает дополнительное объяснение различий внутри этих групп. Хотя эту концепцию еще предстоит подтвердить исследованиями, она может стать клинически полезным методом распознавания моделей, сбора дополнительных данных, коммуникации с пациентами и разработки лечебных интервенций.
Целесообразно проанализировать эти стратегии с точки зрения их связи с эволюционным прошлым. Стремление гистрионной личности привлечь к себе внимание, например, может иметь корни в брачных ритуалах животных; поведение антисоциальной личности – в хищническом поведении; поведение зависимой личности – в проявлениях привязанности, которые можно наблюдать повсюду в животном мире (ср. Bowlby, 1969). Рассматривая дезадаптивное поведение людей в таких понятиях, мы можем оценить его более объективно и уменьшить тенденцию навешивать на него уничижительные ярлыки, такие как «невротическое» или «незрелое».
Концепция, согласно которой человеческое поведение можно продуктивно рассматривать с эволюционной точки зрения, была разработана Макдугаллом (McDougall, 1921). Он детально изучил преобразование «биологических инстинктов» в «чувства». Его работа оказала огромное влияние на взгляды ученых, занимающихся биосоциальными проблемами, таких как Басс (Buss, 1987), Скарр (Scarr, 1987) и Хоган (Hogan, 1987). Басс выделяет такие типы поведения людей, как соперничество, доминирование и агрессия, отмечая их сходство с поведением приматов. В частности, он сосредотачивается на роли коммуникабельности у людей и приматов.
Хоган (Hogan, 1987) постулирует филогенетическую наследственность, согласно которой биологически запрограммированные механизмы возникают в последовательности развития. Он обращает внимание на то, что культура предоставляет возможности для выражения генетических паттернов. Хоган рассматривает движущую силу человеческой деятельности, направленную на увеличение привлекательности, повышение статуса, усиление власти и влияния, как аналогичную у приматов и других социальных млекопитающих. В своей эволюционной теории человеческого развития он подчеркивает важность этого «соответствия».
Скарр особо подчеркивает роль генетической предрасположенности/вклада в формировании личности. Она утверждает:
В ходе развития различные гены включаются и выключаются, что приводит к изменениям в организации поведения точно так же, как и к изменениям в моделях физического роста. Генетические различия между индивидуумами также ответственны за определение того, какой опыт получат или не получат люди в своей среде (Scarr, 1987, p. 62).
Взаимодействие между генетическим и межличностным
Процессы, выходящие на первый план при расстройствах личности, также могут быть исследованы с точки зрения психологии развития. Так, привязанность, застенчивость или непослушание, наблюдаемые у растущего ребенка, могут сохраняться на протяжении всего этого возрастного периода (Kagan, 1989). Мы предполагаем, что эти паттерны скорее всего сохранятся как в поздней юности, так и во взрослом возрасте и могут выражаться в определенных расстройствах личности (например, в зависимом, избегающем или пассивно-агрессивном типах поведения).
Независимо от первичного происхождения генетически заданных прототипов человеческого поведения есть веские доказательства того, что некоторые типы относительно устойчивых темпераментов и поведенческих паттернов присутствуют уже при рождении (Kagan, 1989). Эти врожденные характеристики лучше рассматривать как «тенденции», которые могут акцентироваться или ослабевать под воздействием опыта. Кроме того, может установиться непрерывный, взаимно подкрепляющийся цикл между врожденными паттернами человека и паттернами значимых для него людей. Например, человек, для которого чрезвычайно важна забота, может вызывать проявления заботы со стороны окружающих, вследствие чего врожденные паттерны этого человека будут поддерживаться намного дольше периода, на протяжении которого такое поведение можно считать адаптивным (Gilbert, 1989). Так, пациентка по имени Сью, подробнее о которой мы поговорим чуть позже, по словам ее матери, фактически с рождения была более привязчивой и требовала большей заботы, чем ее братья и сестры. Мать давала ей особую заботу и защиту. Став взрослой, Сью продолжала тянуться к более сильным людям, которые отвечали на ее желание постоянной любви и поддержки. Другая проблема состояла в ее убеждении, что она непривлекательна. Ее постоянно дразнили старшие братья, что стало основой для убеждения: «Меня нельзя любить». Из-за этого убеждения она избегала ситуаций, в которых ее могли бы отвергнуть.
До сих пор мы говорили о «врожденных тенденциях» и «поведении», как будто эти характеристики могут отвечать за индивидуальные различия. В действительности, согласно нашей теории, интегрированные когнитивно-аффективно-мотивационные программы обусловливают поведение человека и отличают его от других людей. У детей старшего возраста и у взрослых застенчивость, например, является производной внутренней структуры установок типа «опасно нарываться на неприятности», низкого порога тревожности в межличностных отношениях и робости при общении с новыми людьми и незнакомцами. Эти убеждения могут появиться в результате повторения травмирующего опыта, подкрепляющего их.
Несмотря на мощную комбинацию врожденной предрасположенности и влияний окружающей среды, некоторые люди оказываются способными изменять свое поведение и лежащие в его основе отношения. Далеко не из всех застенчивых детей вырастают застенчивые взрослые. Например, культивирование более напористого поведения под влиянием значимых людей и опыта может постепенно сделать застенчивого человека уверенным в себе и общительным. Как мы увидим в последующих главах этой книги, даже крайне дезадаптивные паттерны могут быть изменены, если направить психотерапию на определение этих установок и формирование или укрепление более адаптивных установок.
Мы уже вкратце касались вопроса о том, как врожденные задатки могут взаимодействовать с влиянием окружающей среды, что приводит к появлению количественных различий в характерных когнитивных, аффективных и поведенческих паттернах, отвечающих за индивидуальные личностные особенности. У каждого человека есть уникальный профиль личности – вероятность конкретных реакций на ту или иную ситуацию.
Человек, вступающий в группу, где есть незнакомые ему люди, может думать: «Я буду выглядеть глупо» и испытывать робость. У другого человека в подобной ситуации может возникнуть мысль: «Возможно, я смогу развлечь их». Третий подумает: «Они недружелюбны и могут манипулировать мной», и будет начеку. Характерные реакции людей отражают важные структурные различия, представленные в их базовых убеждениях (или схемах). Такими базовыми убеждениями могут быть: «Я уязвим, потому что не знаю, как себя вести в новых ситуациях», «Я интересен всем людям» и «Я уязвим, потому что люди недружелюбны». Их можно наблюдать у нормальных, хорошо адаптированных людей, и они характеризуют их личность.
Однако эти же самые убеждения гораздо ярче выражены при расстройствах личности; в приведенном выше примере они соответственно характеризуют избегающее, гистрионное и параноидное расстройства. Люди с расстройствами личности обнаруживают одно и то же повторяющееся поведение гораздо чаще, чем люди, их не имеющие. Типичные дезадаптивные схемы при расстройствах личности, проявляющиеся во многих или даже в большинстве ситуаций, имеют компульсивный характер и не так легко поддаются контролю и изменению, как похожие схемы у здоровых людей. Любая ситуация, имеющая отношение к содержанию дезадаптивных схем, будет активировать эти схемы вместо более адаптивных. В большинстве случаев такие паттерны пагубно влияют на многие важные цели этих людей. В целом, относительно других людей, их дисфункциональные установки и поведение чрезмерно обобщены, ригидны, императивны и невосприимчивы к изменению.
Darmowy fragment się skończył.