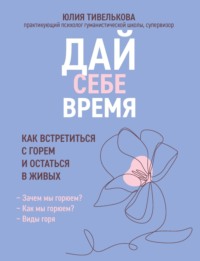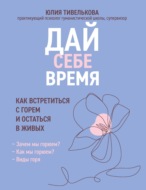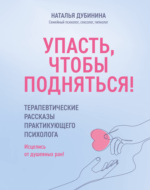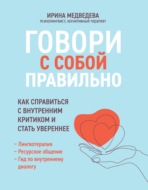Czytaj książkę: «Дай себе время. Как встретиться с горем и остаться в живых», strona 6
Однако не нужно думать, что горевание у таких людей происходит легко. Здесь речь больше пойдет о телесном проживании, которое может проявляться в перенапряжении или нервозности. Поэтому они могут сталкиваться с осложненным дыханием, резкими изменениями артериального давления, бессонницей, сниженной концентрацией, невозможностью усмирить внутреннее возбуждение. Более того, те, кому свойственен этот стиль горевания, могут быть менее чувствительны к своему физическому состоянию, не считывая ухудшение здоровья (ощущать себя спокойными, хотя физиологические показатели изменены).
Проблема этого стиля горевания еще и в том, что окружающие часто воспринимают его как желание отгородиться. «Видимо, он мне не доверяет», – думает человек, который из лучших побуждений пытается вытащить из горюющего друга хотя бы пару слов о его трагедии. Но это не так. Известное правило «человеку нужен человек» работает и здесь. Даже деятельным и малоэмоциональным на вид людям рядом все равно требуются другие. Не стоит много разговаривать или пытаться расшевелить человека; достаточно будет простого присутствия или разделения сложностей, новых задач, трудных вопросов, связанных с утратой. Такие люди делятся тем, о чем думают, а не тем, что чувствуют: ведь это более явная для них часть внутреннего мира.
В этом смысле психотерапевтическая помощь (как групповая, так и индивидуальная) может оказаться не полезна и даже вредна, если специалист считает, что горевание возможно только по интуитивному стилю, и настаивает на погружении в эмоции и фокусировании именно на них, упуская, что за рассказом о делах, рутине, жизненных задачах тоже может стоять горе и адаптация к новым условиям в связи с потерей.
Условно интуитивные горюющие, о которых мы говорили чуть выше, утешают эмоции через выражение и разделение их с другими, а инструментальные – через анализ того, о чем они думают, вспоминают, планируют. Их внешнее проявление горевания – это действия, направленные на контакт с собой, на самовыражение, созидание, изменение, контроль над доступной человеку частью мира и влияние на происходящее через решение проблем и задач.
Примерами такого поведения могут быть спортивные занятия (например, бег, тяжелая атлетика, конный спорт, боевые искусства); что-то более бытовое, что может помочь «отключить голову» или, наоборот, дать время поразмышлять (уборка, покос травы, распиливание дров); рукоделие (шитье, вышивание, вязание, рисование) да и просто прогулки. Если мы говорим о смерти, то горевание может проявляться в активной деятельности, связанной с уходом человека. Например, попытки сохранить память об умершем человеке или связь с ним: помимо уже упомянутых выше фотоальбомов и эскизов памятников, это может быть обустройство могилы (высаживание цветов или посадка дерева), создание фонда памяти или стипендии в честь умершего, принятие на себя его дел (бизнеса или другой ответственности), участие в деятельности благотворительных организаций. При болезни близкого или какой-то тяжелой ситуации в его жизни горевание может выражаться в физической помощи и заботе. Иногда это называют «молчаливое участие».
Такого рода активности могут помогать восстанавливать ощущение нормальности и чувство безопасности, которые нарушаются при столкновении с утратой.
Мне вспоминается история Андрея Павленко – петербургского онколога, который, узнав о том, что заболел раком желудка, завел блог, в котором рассказывал о течении своей болезни. Таким образом он создавал смысл из горя, с которым столкнулся (и как врач очень хорошо понимал, что в этот момент утратил возможность долгой жизни). Его жена вспоминает, что новость о своем заболевании Павленко сообщил ей «спокойно, даже с улыбкой». Следующие его шаги тоже хорошо иллюстрируют инструментальный стиль: он открыл фонд, чтобы передавать свои знания и обучать других врачей; использовал разные варианты распространения информации об онкологии, чтобы увеличивать грамотность людей и их шансы на успешное лечение; создал грант своего имени, деньги от которого должны были также способствовать медицинскому просвещению и частично помогать его семье… Даже последнее его решение – снизить количество встреч и другую социальную активность, сосредоточиться на общении с семьей – это пример инструментального стиля горевания9.
Смешанный стиль
Я пишу книгу про горевание, потому что для меня самой это один из способов переработать горе. Смерть мамы соединяется с моим профессиональным взглядом – и через это боль как будто обретает смысл: я проживаю ее, подсказывая другим, в чем и как можно себе помочь, чтобы справиться с такой тяжелой потерей.
При этом, быть может, читая кусочки моего личного опыта о горевании по маме на предыдущих страницах, вы заметили, как много я говорю про яркие переживания чувств. А из того, каким образом я их описываю, вы можете догадаться, что я умею в них погружаться и тонко различать нюансы.
Каков же мой стиль горевания: инструментальный, направленный на действия, или интуитивный, завязанный на эмоциях? Или вообще что-то среднее?
Да, именно так – что-то среднее. Кстати, возможно, читая выше про два стиля горевания, вы и себя ловили на мысли, что в обоих вариантах есть признаки, свойственные вам. Сразу скажу: это нормально. «Нахождение посередине» может проявляться в том, что, переживая утрату, вам временами важно погрузиться в эмоции и не слышать ничего другого, а иногда вы вдруг переключаетесь на режим действия и важным становится сделать, а не переживать.
Одним из примеров в книге «Скорбь не зависит от гендера» была история Сюзан, у которой тяжело болела мама, и приближение ее смерти было очевидно. Когда это случилось, горюющая дочь была собранна и решала необходимые задачи. Можно было предположить, что ее стиль горевания – инструментальный. Но следом трагедия внезапно произошла с ее племянником, и его гибель не укладывалась ни в какую логику. И тогда Сюзан повела себя совсем по-другому: эмоции захватили ее, ей требовалось много времени на их переработку – и она выбрала пойти на группу поддержки, чтобы было с кем разделить чувства. Один человек, но две разные ситуации и две разные реакции.
Такой стиль горевания мы называем смешанным. И по статистике он встречается чаще всего.
Почему нам важно знать о стилях горевания?
Обращение к идее о стилях горевания – мой способ рассказать о том, что варианты проживания горя и правда есть. Надеюсь, эта идея помогает вам увидеть, что не нужно выбирать, кто нормален: вы или ваш близкий, реагирующий иначе.
Но, к сожалению, наши представления о горевании базируются на множестве информации, которую мы получали до этого с самого рождения, и не так просто сдвинуть их, даже если мы понимаем, что наши ожидания некорректны.
Я предлагаю вам осознанно возвращаться к этим идеям в следующих ситуациях:
● когда вам кажется, что человек перед вами горюет «не так, как все»;
● когда вы сами как будто выпадаете из «нормального» проживания утраты;
● когда для того, чтобы избежать критики со стороны других, вы вынуждены скрывать свои истинные реакции на произошедшую потерю.
И вот почему.
По словам авторов книги «Скорбь не зависит от гендера», изначально они отталкивались от идеи исследования мужского горевания. И то, что сейчас мы с вами называем инструментальным стилем, в их предыдущих работах именовалось как «мужская схема проживания горя».
Этот термин они использовали не случайно и прямо в тексте приводили ряд весомых причин10, однако после публикации книги началась интересная история. Несмотря на продуманную аргументацию, авторы книги стали получать такую обратную связь, которая вынудила их задуматься об изменении терминологии. «То, что вы описываете как „мужское“, подходит и нам тоже!» – писали женщины, приводя в пример даже такие «женские» утраты, как потеря беременности, и просили быть внимательными к языку. Мужчины тоже были недовольны: получалось, что они обязаны иметь именно такой стиль горевания, чтобы считаться «настоящими мужчинами», хотя не все из них считали его подходящим себе. И то и другое подкрепляло стереотипы, которые авторы как раз и пытались поставить под сомнение.
Авторы с интересом отнеслись к этому феномену, дополнили свое исследование и в итоге не только заменили названия стилей горевания, но и включили в книгу большую главу про гендерное влияние на проживание утраты: как культурные стереотипы влияют на то, чего мы ожидаем от других в горе, и как мы позволяем горевать себе, опираясь на общественные представления о нормальных проявлениях у мужчин и женщин.
Я не буду сейчас погружаться в гендерные стереотипы настолько глубоко, но уверена, что в них кроется одна из причин, по которой сложно получать поддержку и корректно оказывать ее.
В нашей культуре «все просто»: мальчикам, как известно, нельзя плакать. Поэтому мы ожидаем от них инструментального подхода: спокойно, без эмоций, рационально, по делу, собранно, целенаправленно предпринимать необходимые шаги.
Девочки же, наоборот, считаются сверхчувствительными и должны тонко различать нюансы эмоций, уметь открыто их выражать и даже порой выпадать в аффективные состояния, ведь их психика хрупка и нестабильна.
Звучит утрированно, но, к сожалению, эта стереотипность провоцирует серьезные проблемы.
В контексте горевания первая из таких проблем возникает тогда, когда ожидания общества не совпадают с тем, как конкретный человек проживает свои утраты. Если мужчине важно на какое-то время «уйти в горе», перестать справляться, оказаться неспособным совершать даже простые действия, реакция окружающих может быть очень резкой. «Соберись! Будь мужчиной!» – самое мягкое из того, что он рискует услышать. Последствия предположить несложно – подобное табу, например, рождает необходимость в алкоголе или других веществах: «Мне нужно что-то, что подавит чувства, которые я не могу подавить самостоятельно, но и ощущать их не имею права».
И наоборот: если женщина, сталкиваясь с потерей, не погружается в уныние, а продолжает совершать действия, которые внешне не связаны с утратой, ее могут обвинить в бесчувственности и отрицании: «Такое случилось – а ей хоть бы хны! Вот какая она, оказывается, на самом деле!»
Важный момент: требования и критика, впитанные «из воздуха» за годы жизни, могут звучать не только извне, но и изнутри. Я сама себе могу не позволять того или иного, потому что «не принято».
Для многих из нас то, как принято в обществе, было и до сих пор остается более важным, чем «как лучше мне лично». Особенно если учесть, что, как нам лучше, мы чаще всего просто-напросто не знаем.
Самоподдержкой здесь может стать ваше наблюдение за собой и рефлексия о том, что помогало именно вам в разных ситуациях утраты. Тогда в состоянии полной растерянности при столкновении с болью у вас будет возможность предложить себе какие-то исцеляющие варианты. Еще одной частью такой поддержки, я надеюсь, станет для вас эта глава: да, горевать можно по-разному, и палитра реакций вовсе не должна ограничиваться привычными «плачу, потому что я женщина» или «ушел в себя, потому что мужчины всегда переживают так».
Если ваш стиль горевания смешанный, то доверие к себе в принципе выходит на первый план. В каждый момент времени придется прислушиваться и понимать, что вам важно именно в этой ситуации и именно сейчас. Замечать любые внутренние «но ведь я должна/должен бы», отсеивать их и спрашивать себя: «Как мне сейчас? Что мне сейчас нужно?»
Поверьте: нормально все, что восстанавливает вашу жизнеспособность, а не разрушает ее11.
Вторая проблема, связанная с культурными стереотипами в контексте горевания, может возникнуть, даже если мы не привязываем реакции к гендеру, но в качестве нормального все равно воспринимаем только один из стилей горевания. В этом случае сложности могут начаться на уровне пар: нас двое, а реагируем мы по-разному. Одному кажется, что партнер холоден и обесценивает происходящее, а второму – что первый не справляется с эмоциями и слишком много внимания уделяет своим чувствам, а не реальности. «Хватит убиваться, пора жить нормальной жизнью!» – говорит один, в то время как другой начинает переживать уже не только из-за произошедшего, но и из-за такой реакции близкого человека: «Ему (ей) наплевать на мои чувства! Он(а) сам(а) ничего не чувствует, как будто ему (ей) совсем не важна наша потеря!»
отсылка к Юнговским понятиям «анимус» и «анима» (напоминающим, что во всех из нас есть «мужская» и «женская» часть);
желание подчеркнуть зависимость стиля горевания от гендера (да, оно не продиктовано физиологически, но очевидно связано через социальные ожидания);
попытка показать, что мужское горевание, которое принято считать малоэффективным, на самом деле – несмотря на свое отличие от традиционного, «женского», – является настоящим и конструктивным гореванием;
стремление заострить внимание на проблеме восприятия мужского горя и начать дискуссию.
Darmowy fragment się skończył.