Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников
Tekst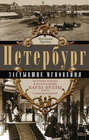


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 680 str. 201 ilustracji
- Kategoria: historia powszechna, przewodniki turystyczne
От Дворцового к Дворцовому
Очень знакомая картина открывается нам на снимке, но что-то в ней не так… Чего-то глазу не достает.
Не хватает привычного каждому горожанину Дворцового моста. Хотя переправа через широкую Неву видна. Тоже называвшаяся Дворцовым мостом, она была предшественницей того металлического, что достался в наследство нам с вами.
В истории ее существования есть любопытные страницы.
Начнем с того, что этот деревянный наплавной Дворцовый мост появился сначала на другом месте Невы и под другим именем: его соорудили в 1733 году ниже по течению и назвали Исаакиевским. К Стрелке же переехал он в середине XIX века, в связи с открытием первого постоянного металлического невского моста – Николаевского.

Устроен был Исаакиевский-Дворцовый мост на барках-плашкоутах, при надобности разводился, на время ледохода и ледостава вовсе убирался к берегам. Одно слово – временный, хоть и на многие десятилетия!
Да и став уже Дворцовым, мост снова, по меньшей мере дважды, менял местоположение. Один раз это случилось в 1896 году. Тогда как раз начали устраивать сад около Зимнего дворца, который по первоначальному проекту должен непосредственно примыкать к Адмиралтейству. Кроме того, писали столичные газеты, обитателей Зимнего беспокоил шум большого движения по мосту…
Обсуждались два варианта. Вернуть мост опять к Сенатской площади или лишь чуть передвинуть вниз по течению… Чтобы не ставить его «под бок» к Николаевскому, остановились на втором.
Летом и осенью шла подготовительная работа на набережных, а 26 октября 1896 года «Новое время» сообщило: «Сегодня приступлено к перестановке Дворцового моста на новое его место, против здания Адмиралтейства». Работы растянулись до Рождества, в Управу посыпались жалобы от горожан, лишившихся удобной переправы…
Все хлопоты по передвижению, впрочем, оказались пустыми: сад у Зимнего дворца занял меньше места, чем предполагалось.
Потом, разумеется, вопрос о переносе встал при начавшемся в 1912 году строительстве постоянного Дворцового моста. Вот на этот раз наплавной мост все-таки передвинули к Сенатской площади, хотя было и предложение переместить его вообще к 26-й линии Васильевского острова.
В дальнейшем собирались поставить старую переправу на службу жителям Охты. Но тут уж ничего не вышло, потому что 11 июля 1916 года деревянный Дворцовый мост сгорел дотла – от искры из трубы проходившего парохода. Отстоять его от огня не смог даже весь состав столичных пожарных частей, прибывших по вызову.
Впрочем, город чуть было не лишился древней этой переправы еще весной 1899 года, когда давно требовавшие ремонта плашкоуты дали течь и затонули. Именно после этой катастрофы и встал со всей серьезностью вопрос о необходимости строить вместо временного и деревянного мост металлический, на каменных опорах.
В 1901 году объявили конкурс на проект, после чего началось многолетнее обсуждение поступивших предложений и выбор подрядчиков на строительство. Только в 1912 году начали сооружать постоянную Дворцовую переправу по проекту А.П. Пшеницкого.
Интересно, что пока шла эта волокита, возник и был отвергнут проект гласного Думы, инженера М.П. Фабрициуса, который предложил вместо того, чтобы строить новый Дворцовый мост, проложить под Невой тоннель. И надо заметить, что не у него первого родилась подобная смелая идея. Другой инженер, Я.К. Ганнеман, еще раньше Фабрициуса предлагал тоннелем заменить Троицкий мост. Оба несколько опередили свое время…
«Вчера состоялось открытие нового Дворцового моста», – наконец-то смогли обрадовать петербуржцев столичные газеты 24 декабря 1916 года. Торжество было необычно скромным. Как писала «Петербургская газета», из приглашенных «явились процентов десять», даже городской голова П.И. Лелянов не пришел, и ленточку разрезал его заместитель Демкин. Первым же на новый мост, обогнав всех, въехал какой-то ломовой извозчик с досками…
«Имел обыкновение трещать…»
Наш город часто называют Северной Венецией – ведь весь изрезан он Невой с ее рукавами, речками и каналами. И как Венеции итальянской, без мостов ему не обойтись.
С петербургскими мостами связано немало интересных историй, а происшествие с одним из них стало примером хрестоматийным, вошедшим, кажется, во все учебники физики как иллюстрация явления резонанса.
«Был первый час дня, – писала «Петербургская газета» в пятницу 21 января 1905 года. – Через Египетский мост взад и вперед снуют пешеходы и извозчики. На Могилевской улице… показалось два взвода III-й конно-гренадерской бригады… Ехавшие впереди офицеры уже успели проехать Египетский мост и очутились на Ново-Петергофском проспекте, два взвода конных гренадеров только въезжали на мост. Вдруг что-то затрещало. На это вначале не обратили внимания, так как Египетский мост имел обыкновение „трещать и скрипеть“ постоянно, и летом и зимой…»
Но на этот раз, в четверг 20 января, под размеренный цокот лошадиных копыт мостовые цепи лопнули. «Деревянный Египетский мост с грохотом, с треском, заглушаемым людским стоном и криком, опустился в воду». Через полтора часа в полиции стало известно, что пострадал один нижний чин из гренадеров, одна дама, вытащенная из воды «с повреждением лица», десятилетняя девочка, «раненная в ногу», и одиннадцать извозчичьих лошадей.

Может, тогда же сделан и этот снимок. Стало ли это происшествие неожиданным, по крайней мере, для городских властей? Вовсе нет. По иронии судьбы как раз накануне обвала, 19 января, в заседании Городской думы выступал член Управы В.Ф. Бруевич и именно городское управление, то есть Управу и Думу, он критиковал за плохое состояние многочисленных небольших столичных мостов. «Я не могу умолчать того обстоятельства, – говорил он думцам, – что в виду дешевизны строятся они из старых барочных кокор и таких же досок, с добавлением самой малой части новых досок».
Надо отдать должное столичным журналистам. Они-то давно били тревогу по этому поводу! «Петербургская газета» еще весной 1899 года представляла список мостов, которые уже тогда «ожидали своей очереди провалиться».
В этом перечне были мосты – Храповицкий, Кашин, Матисов, Ново-Калинкин, Банный, Молвинский и другие деревянные переправы.
«Езда шагом» – такая надпись красовалась на одних мостах. «Но и ходьба шагом часто по ним очень небезопасна», – предупреждали газеты. По другим, вроде Каменноостровского, не дозволялось возить тяжелые грузы. «Однако по нему ходят конки, которые тяжелее запрещаемых 200 пудов».
На некоторые мосты ломовые извозчики не допускались вовсе. В эту категорию однажды попал Гутуевский мост, «парализовав целую фабрику», куда месяц не доставлялись грузы с таможни, бывшей на Гутуевском острове.
Однако от этих «мер безопасности» толку было мало. Деревянные мосты и мостики то и дело преподносили сюрпризы. В 1900 году, к примеру, не выдержал тяжести ломовой телеги настил переправы через речку Таракановку и провалился. А из-под Строгановского моста упала доска прямо на проходивший под ним пароходик, полный публики…
Между прочим, на злополучном Египетском мосту тоже висело предупреждение о «езде шагом». Но ведь и конные гренадеры по нему не галопом скакали! Более того, как выяснилось потом в жарких дебатах на тему «кто виноват», мост этот даже ремонтировали. Дважды: в 1904 году и один раз, не поверите, в начале января 1905-го! Правда, как писали потом, ремонт этот производился «странным манером»: поверх прогнивших досок просто наколачивались другие. Одна из столичных газет ехидно заметила, что Управа вообще устраивает «опыты экономического строительства из древесного хлама».
Результаты таких ремонтов, как видите, не заставляли себя ждать…
Старый Египетский мост не дожил до своего 80-летия лишь одного года. После катастрофы в створе нынешнего Лермонтовского проспекта (который позже составился из Ново-Петергофского проспекта, Могилевской и Большой Мастерской улиц) очень быстро, за три месяца, к середине апреля, возвели взамен временную переправу – опять деревянную.
Тогда же решилась и судьба другого цепного моста – Пантелеймоновского, который был на три года старше Египетского и тоже «имел обыкновение трещать и скрипеть». В 1905 году его незамедлительно разобрали, а через три года выстроили на замену металлический, тот самый, по которому мы и теперь перебираемся через Фонтанку у Летнего сада. А металлический Египетский появился на Фонтанке только полвека спустя.
Засыпать нельзя очистить
Вот на старом фото – кусочек такого знакомого нам петербургского канала. Как хорошо, что он существует в нашем городе, со всеми своими прелестными мостами и мостиками…
А ведь мог бы и не дожить до нашего времени. Знали бы вы, сколько раз существование Екатерининского канала – горожанам последних поколений известного как канал Грибоедова – оказывалось под угрозой!
Но сначала вспомним, как он появился на свет.
Текла когда-то в этих местах речка по прозванию Глухая – «источник обширных болот». Отметивший сей факт генерал-фельдмаршал Миних повелел приступить к изысканиям на предмет «канализации» не украшавшей столицу реки. Так что первый проект канала появился еще в 1743 году и его выполнил капитан Зверев. Но только Екатерина II положила твердо – канал рыть. К чему и приступили в 1765 году. Она же повелела назвать его своим именем.
Строили канал чуть ли не тридцать лет. Работа оказалась трудной – надо было корчевать деревья, укреплять зыбкие места, забивать сваи, возить грунт… Зато польза вышла очевидная: осушена значительная территория, появился новый транспортный путь, а воды жителям выраставших по берегам домов хватало и для питья, и для полоскания белья на портомойных плотах, и для тушения пожаров.

Но с годами канал мелел, вода в нем застаивалась, гнила, ведь прямо сюда сливались из домов все нечистоты. Перед городскими властями встала проблема: что с ним делать? Обычно являющаяся в подобных случаях мысль – ликвидировать сам источник проблемы.
Она и явилась в проекте военного инженера Мюссарда, который в компании с архитектором Двора Николаем Бенуа, инженером Повалишиным и технологом Буровым даже учредил в 1869 году предприятие по засыпке Екатерининского канала в большей его части и устройству вместо него проспекта. Среди множества доводов Мюссард приводил и такой – проспект послужит «местом прогулок беднейшего класса населения, лишенного возможности пользоваться летом дачами».
Предполагаемый проспект выходил слишком длинным, а потому авторы разделили его на «отделы» с разными названиями. Если идти от нынешнего Спаса-на-Крови, от моста к мосту, то «отделы» такие: Императорский (или даже точнее имени Александра II), Кавказский, Туркестанский, Крестьянский, Земский, Судебный и Гласный. Несколько странный набор топонимов! Украсить проспект планировалось бюстами особ дома Романовых, фонтанами, чугунными скамейками, киосками и деревьями.
Что касается мостов на канале, то большинство их по проекту следовало уничтожить. Сохранялись лишь два – Банковский и Львиный, но… перенесенные на новые места. Так, Львиному определялось стоять на Мойке, против Фонарного переулка.
Царствовавший тогда Александр II одобрил замысел Мюссарда со товарищи. Согласилась в 1870 году на засыпку канала на протяжении от Мойки до Крюкова канала и Городская дума, подсчитав, что уйдет на это 10 лет и полмиллиона рублей… Это не помешало ей же через два года от проекта засыпки отказаться, «положив принять меры к очистке и углублению канала».
«Меры», однако, приняты не были. О канале продолжали говорить как о зловонной клоаке, никак не украшающей столичный центр.
И в 1895 году Думе предложили новое решение проблемы. Инженер Я.К. Ганнеман подал проект устройства электрической железной дороги «по ложбине, ныне занимаемой Екатерининским каналом». По Ганнеману, достаточно было канал просто осушить и поставить водонепроницаемые перемычки по обоим концам. При этом сохранялись набережные и мосты, «на которые прошлыми поколениями затрачено столько труда и капитала». Думцы и их эксперты отклонили проект Ганнемана как технически сомнительный… Канал становился все мельче и грязнее. Финляндское легкое пароходство, чьи суденышки перевозили в Северной Венеции народ и грузы, даже собиралось снять отсюда свои маршруты…
Между тем на берегу уже шло строительство храма в память убиенного Александра II. И речь о судьбе канала завели в очередной раз. В мае 1902 года Городская дума вновь дает поручение составить смету на засыпку. Ее вместе с проектом представил в начале января 1903 года инженер-полковник Н.А. Житкевич. Он вернулся к идее зарыть канал от Мойки до Крюкова канала и устроить на участке от Казанского моста до храма проспект имени Александра II с обелиском в его честь и бюстами сподвижников царя «в цветниках». Остальная засыпанная часть была бы просто улицей, с трамваем в будущем.
Тогда же Дума получила и проект Э.Ю. Лундберга – заключить канал в трубу, но и его отклонили.
А насчет засыпки продолжались вялотекущие размышления.
1903-й – думцы опять голосуют против засыпки и требуют от Управы привести канал в порядок.
1904-й – они же отказывают в финансировании работ по его очистке.
1905-й – снова постановляют зарыть канал…
«Почему городская Дума не может собраться засыпать Екатерининский канал?» – «Потому что она всегда засыпает над этим вопросом». Такая подпись сопровождала карикатуру в «Петербургском листке» 14 ноября 1907 года.
Дальнейшую хронологию я даже приводить не буду. Екатерининский канал, как видите, остался жив, и слава богу. Без него Петербург трудно и представить…
На Фонтанке-реке
«Расписание Финляндского легкого пароходства на 1896 год. ПО ФОНТАНКЕ – от Летнего сада, Прачешного моста, до Калинкина моста, с остановками у всех мостов, плата 5 копеек, за багаж 2 копейки и выдается квитанция. Начало рейсов в 7 утра и окончание в 11 часов вечера. Интервал 5–7 минут. Забытые на пароходах вещи хранятся на пристани у Прачешного моста».
…Как и другие реки, и каналы, Фонтанка была прежде, и с давних времен одним из привычных петербуржцам городских путей сообщения. Вот характерное объявление в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции»: «Санкт-Петербургская городская управа, назначив в присутствии торг 1 апреля 1880 года в 1 ч. дня на отдачу в арендное содержание перевозов с берега на берег на реке Фонтанке и Обводном канале, сроком на одну навигацию 1880 года, приглашает желающих явиться в означенный срок к изустному торгу в Управу».
Частные перевозчики даже в начале XX века все еще переправляли пассажиров через реку на яликах! А неширокая речка и без того была переполнена «плавсредствами» – баржами, плотами, рейсовыми пароходиками…
Притом служила Фонтанка еще и своеобразным рынком.
С барж здесь продавали дрова, но особенно часто приходили сюда за живой рыбой. Это было настолько привычно для столичных жителей, что, наверное, они очень удивились и рассердились, когда городские власти летом 1915 года вдруг решили лишить их такого удобства. Однако именно тогда в «Новом времени» появилось следующее суровое распоряжение: «Владельцам живорыбных садков разрешено оставить на реке Фонтанке барки, служащие для хранения свежей рыбы и жилья. Что же касается лодок и прорезей с живой рыбой, то они переносятся на Неву, туда же переносится и городской рыбный рынок… Продажа живой рыбы в водах Фонтанки запрещена».

…Самый красивый мост на Фонтанке – Аничков. Вы его узнали на фотографии по клодтовскому коню. Сделана она в самом начале 1900-х годов.
Примерно в то же время петербургские газеты стали волновать городских обывателей сообщениями о том, что состояние старого моста становится угрожающим. «В лаборатории института министерства путей сообщения недавно были произведены испытания гранитных кирпичей, взятых из сводов Аничкова моста, с целью выяснения вопроса, насколько они изменили свои первоначальные свойства… Полученные результаты испытания указывают на необходимость капитального ремонта Аничкова моста, у которого, между прочим, обнаружена и значительная осадка тротуарных плит и поверхности мостовой», – писали «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 1900 года.
Но к ремонту приступили только в 1906 году. Работы велись сначала на одной половине моста, потом на другой, чтобы не прерывать трамвайного движения. А для пешеходов и извозчиков, по информации «Петербургского листка», должны были построить временные мосты по обе стороны Невского.
Завершились работы на Аничковом в 1908 году.
«Городскому общественному управлению придется разбираться опять в очень неприятном деле… Переустройство Аничкова моста, которого с таким нетерпением ожидал столичный обыватель, оказалось сделанным очень небрежно», – заявляло 5 октября 1908 года «Новое время». И, со слов комиссии, составленной из специалистов, перечисляла эти «небрежности» – прогиб кирпичных сводов, просачивание воды в основной шов на стыке двух половин моста, незаделанные швы кладки на нижней поверхности сводов… Но Городская управа назначила другую комиссию, в которую вошел также и автор переустройства моста, Г.Г. Кривошеин. Эта комиссия никаких прогибов уже не обнаружила, а про швы сказала, что их можно и заделать.
У Управы, отбивавшейся от критики по части качества ремонта Аничкова моста, была на тот момент другая головная боль: ее вызывали в окружной суд ответчицей по делу о провале Египетского моста…
Ах, что это движется там вдалеке!
Если б надо было вам, любезный читатель, этак лет сто назад хорошим летним днем да без спешки добраться до Летнего сада, то можно было вам присоветовать следующее. Отправиться на какую-нибудь пристань на Фонтанке, например, на эту, у Прачечного моста, что на снимке – сесть там на пароходик и за пятачок доплыть на нем к пристани у сада.
Или опять же пароходиком двинуться туда по Мойке.
Или отправиться в путь широкой Невой, например, от Сенатской пристани. Шустрые паровые суденышки сновали тогда по всем столичным рекам и каналам, делая в пути частые остановки.

«Товарищество Петергофского пароходства», «Товарищество пароходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом», «Шлиссельбургское пароходство», «Невское пароходство»… Все это петербургские компании, что обслуживали только столичные водные пути и ближние к ним. Но, пожалуй, ведущим среди них было Акционерное общество Финляндского легкого пароходства. Именно оно осуществляло в нашем городе основные пассажирские перевозки по воде. Оно же первым и организовало это самое «продольное», как когда-то его обозначили в Управе и Думе, движение по рекам – ведь поперек, с берега на берег, яличники перевозили пассажиров всегда.
А Управа с Думой, надо заметить, долго сомневались, стоит ли давать разрешение на пароходное движение в пределах столицы, особенно на малых речках и каналах. Посчитали, что оно окажется неудобным и опасным из-за множества рыбных садков, портомойных плотов, дровяных барж и т. п. Поэтому в 1873 году первому из инициаторов дали отказ, и потом повторяли его не однажды.
Но один из просителей оказался весьма настойчив и победил – это Рафаэль фон Гартман учредитель Общества Финляндского легкого пароходства. Устав общества, принятый 16 февраля 1877 года, был опубликован на русском и финском языках, так как оно хоть и работало на просторах столицы Российской империи, но было предприятием финским. И правление его находилось в Выборге, и подсудно оно оставалось выборгскому ратгаузу. Столичные же службы общества помещались на Офицерской, 26 (ныне – улице Декабристов).
«Финляндскому обществу легкого пароходства очень и очень недурно живется в Петербурге, – писала «Петербургская газета». – Оно вне конкуренции господствует на водах столицы, обменивая русские рубли на финские марки».
Из финнов набирались и все основные служащие – от шкипера до матросов, исключая разве сторожей на пристани да кассирш. По крайней мере, именно так было в 1894 году, судя по изданной тогда инструкции «Служебные обязанности служащих Финляндского легкого пароходства».
Впрочем, той же инструкцией в обязанность им вменялось умение объясняться по-русски и в отношениях с пассажирами не отговариваться незнанием языка. Требовались от них также трезвое поведение, честность и аккуратность. И почему-то специальное указание касалось необходимости почаще ходить в баню.
А вообще перечень обязанностей у всех служащих Легкого пароходства был необычайно обширен, за исключением сторожа на пристани. Но у того их пусть имелось и мало, зато одна – очень трогательная: «при высадке с парохода пьяного пассажира осторожно проводить такового на набережную»…
Начальство было весьма строгим с подчиненными: за малейшее нарушение – штраф, при повторном замечании – увольнение. Хуже всех приходилось шкиперу, ему еще вменялось, и возмещать убытки при повреждении парохода, произошедшем по его вине и небрежности.
Но если судить по рубрике происшествий столичных газет, «небрежностью» шкиперы отличались частенько.
«Жалобы на неосторожность шкиперов Финляндского общества не прекращаются, – возмущалось «Новое время» в одном из своих июльских номеров 1897 года. – Столкновения пароходов этого общества повторяются чуть ли не ежедневно. Вчера, 24 июля, в 7 часу вечера пароход, следовавший с пассажирами по Екатерининскому каналу, наскочил на судно с песком… Судно дало течь и затонуло. Столкновение вызвало у пассажиров парохода опасение за собственную безопасность… Многие покинули его».
Негодование репортера можно было понять: только накануне этого происшествия газета сообщила о столкновении парохода № 6 Финляндского общества с «Рыбкой», принадлежавшей Шлиссельбургскому пароходству. Случилось это, по словам газеты, прямо у пристани против Летнего сада. Отваливавший от нее переполненный пароход № 6 ударился в «Рыбку» носом и проломил ей борт. «Некоторые пассажиры получили повреждения».
И все равно эти маленькие речные суденышки пользовались популярностью у столичных жителей. В 1897 году, к примеру, только по Фонтанке за пятачок проехали пароходами 3 376 566 пассажиров. Кто-то даже настолько предпочитал их летом конке или трамваю, что покупал себе «круговые билеты», дающие право всего за два с полтиною ездить по всем линиям в течение целого месяца. Правда, при этом надо было потратиться еще и на фотографию для билета…
