Библиотекарь
Tekst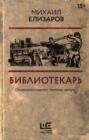


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 380 str.
- Kategoria: współczesna literatura
В ту же секунду старуха Степанида Фетисова выхватила из вены своей соседки Ирины Шостак подведённую капельницу и ловко набросила эту импровизированную удавку Аванесову на шею. Лишившись притока лекарства, Шостак впала в кому, из которой вышла спустя минуту, после того как подействовала Книга.
Восставших было не остановить. Началась бойня, и задушенный капельницей Аванесов стал первой жертвой.
Армия Моховой получила боевое крещение по месту жительства. Для расправы достались четыре медсестры, пять санитарок, три поварихи, две посудомойки-раздатчицы, завхоз, сторож, он же по совместительству электрик и сантехник, и все пациенты мужского отделения, общим числом до пятидесяти.
Старух заранее поделили на десятки. Во главе каждого стояла «мамка-десятница», которая, в свою очередь, управлялась приказами Моховой или Горн.
Два отряда срочно отправили во двор – охранять ворота и забор: никто не должен был улизнуть.
Были блокированы подступы в кабинет директора и приёмную, чтобы исключить возможность телефонного звонка. В подсобке у сторожа Чижова, где тот в последний раз в жизни распивал горькую, изъяли колун, плотницкий топор, небольшую кувалду, отвёртку с длинным стержнем, лом, совковую лопату и лопату для уборки снега.
Старухи проникли на кухню. Там нашлось полдюжины ножей и разделочный топорик, которым сразу же безжалостно порешили двух поварих и посудомоек. Третья повариха, по фамилии Анкудинова, здоровенная баба, раскидав могучими руками старух, смогла пробиться к выходу и скрылась где-то на этаже. Её пока не преследовали.
Режущее оружие выдали самым сильным старухам, привыкшим в прошлой сельской жизни резать скотину и птицу. Кувалду получила крупная особь пролетарского происхождения, бывшая монтажница.
Отряды смерти рассыпались по этажам. Напрасно медсёстры думали спастись, запираясь на ключ в палатах. Кувалда вышибала дверь, и в брешь, толкаясь и рыча, лезли старухи. Они валили женщин на пол и, не имея холодного оружия, рвали руками, грызли вставными челюстями или, сняв с костыля резиновый набалдашник, смягчающий удары, били деревянным основанием в лицо, грудь, живот.
Трём санитаркам удалось пробраться на крышу и задраить за собой люк. Они попытались спуститься по пожарной лестнице. Старухи, готовые сами погибнуть, но не допустить побега, выпрыгивали из ближних окон, намертво цепляясь за халаты беглянок. Санитарки, увлечённые дополнительной тяжестью, с визгом срывались с лестницы и падали, ломая кости.
В мужском отделении десяток старух с подушками бегали от койки к койке и душили парализованных стариков. Ходячих, по приказу Горн, сбивали в кучу и гнали на ножи. Старики покорно шли, как бараны, не предпринимая попыток спастись.
Только одному удалось сбежать – ветерану войны, полковнику в отставке Николаю Каледину. Он, несмотря на возраст, сохранил способность думать и сражаться.
Каледин, повариха Анкудинова, санитарки Басова и Шубина, завхоз Протасов оказали достойное сопротивление. Они сумели пробиться к пожарному щиту и добыли два лома и багор.
С мужеством, достойным Евпатия Коловрата, маленькая группа несколько раз прорывалась сквозь строй старух, но уйти было некуда. Первой пала Шубина, потом погиб завхоз. Повариху Анкудинову, санитарку Басову и полковника припёрли к стене и удерживали выпадами костылей на расстоянии, пока не подтянулись старухи с топорами и ножами.
На койки навалили трупы, чтобы усилить ударную мощь. Гружённые телами, они врезались, как мчащиеся на таран грузовики. Полковник, Анкудинова и Басова были вмяты в стену. Упавшего Каледина сразу прикончили, а мужественных повариху и санитарку Мохова приказала не добивать.
Женщины были немолоды, отличались выдающейся силой и боевой хваткой – об этом сообщила Моховой Горн, и она же предложила переманить Анкудинову и Басову на свою сторону.
В итоге Дом был взят меньше чем за час. Армия Моховой потеряла убитыми всего шестерых «мамок». С десяток получили несерьёзные ранения.
В понедельник на работу вышла новая смена – докторша, старшая медсестра, санитарки. Этих уже просто взяли в плен, запугали и поработили. Новые жертвы были не обязательны, старухи и так почувствовали силу.
Парадоксально, но о кровавом захвате никто не узнал. Здание находилось на городском отшибе. Стариков мало кто навещал. Последняя проверка была за месяц до захвата, и комиссию следовало ожидать не раньше нового года. Да и время наступало смутное, властям было не до престарелых.
Мохова внимательно ознакомилась с личным делом каждого убитого работника Дома. Персонал подобрался бессемейный.
Пожилой директор Аванесов был одинок. В его квартиру подселили старуху, назвавшуюся родной сестрой. Для возможных посетителей и ревизий имелись сломленные докторша и старшая медсестра. На совещания в собес Мохова ездила сама, предоставив фальшивое письмо с печатью Аванесова.
Благодарным материалом оказались санитарки – женщины, приехавшие двадцать лет назад из глухих деревень, полностью списанные роднёй со счетов. Жизнь их не сложилась, они тяжело работали, замуж не вышли, прозябали в общагах. Туда Мохова направила соответствующие письма, мол, такая-то наконец получила площадь.
Сторож Чижов, две одинокие медсестры и посудомойки временно проживали во флигеле на территории Дома, так что с ними проблем вообще не возникло. Мертвецам ещё долгие годы начисляли зарплату, а потом задним числом уволили.
От имени завхоза Протасова состряпали документ, что он завербовался на работу где-то на Урале. В какую-то глушь по фиктивным бумагам спровадили умерших поварих. Сожителю одной медсестры послали поддельное письмо якобы от неё, что она уезжает с любовником на Дальний Восток. У второй разведённой медсестры из родственников были лишь мать и сын. С ними покончила подосланная старуха-смертница, отравившая своих жертв и себя угарным газом.
Оставались многочисленные мёртвые старики и связанные с ними погребальные проблемы. Старухи, даже усиленные Книгой, не смогли бы оперативно закопать столько покойников. Мохова просто договорилась об экскаваторе, пояснив, что нужно рыть котлован для новой прачечной.
Экскаватор вырыл за день яму, и в неё свалили трупы. Близких у стариков не было, а если таковые бы вдруг и объявились, то на этот случай была соответствующая запись о смерти.
Захваченный Дом стал цитаделью Моховой – с гражданской точки зрения, практически неприступный, с трёхметровым забором и прочными воротами. На проходной всегда сидела бессонная вахтёрша, забор патрулировал вооружённый наряд.
Армия отличалась железной дисциплиной и послушанием. Моховой нашлось что противопоставить и сборной интеллигенции Лагудова, и люмпенам Шульги, – принцип коллективного материнства оказался надёжной идеологической платформой.
Бывшая доцент кафедры марксизма-ленинизма Полина Васильевна Горн знала многое, в частности и то, что без генеральной линии ни одна организация долго не просуществует. «Обещай им вечную жизнь. А там посмотрим», – надоумила Мохову Горн.
Мохова построила во дворе свою дружину и поведала о Книгах и Великой Цели. Из её рассказа получалось, что всякий, кто пребудет с Моховой до конца, получит в награду вечность. Старухи, услышав это сомнительное благовестие, огласили плац ликующим рыком. У них появилась Великая Мечта.
Моховская угроза
Книги Громова ещё надо было разыскать, и в этом деле Мохова достигла необыкновенных успехов. Она начала значительно позже своих конкурентов, но довольно быстро наверстала упущенное и обогнала ведущие библиотеки в собирательстве.
Старухи, как в песне о «стальной птице», проникали туда, где не промчится бронепоезд, не проползёт угрюмый танк и не пройдут поисковые отряды вражьих кланов.
Старушечий мир был отдельной вселенной, обширной и богатой возможностями и связями. Знакомства старух опутывали страну. «Мамки» писали письма, садились за телефон, слали телеграммы приятельницам. Нередко банальные посиделки у подъезда приносили больше пользы, чем месячные рейды, предпринимаемые поисковиками того же Шульги или Лагудова. Везде находились Марьи Ивановны, имеющие доступ к информационным закромам: скромные уборщицы, вахтёрши библиотек и архивов, прирабатывающие жалкие полставки к пенсии. Этих всюду проникающих женщин соперники Моховой с ненавистью называли «швабрами».
Старухи опутали шпионской сетью громовский мир. Они легко перехватывали вражеских добытчиков, когда те, ничего не подозревающие, с добычей возвращались домой. Опаивали до смерти в поездах, подстерегали на ночных полустанках, в чёрных подъездах, на безлюдных улицах. Книги потекли к Моховой.
Если бы библиотеки не предприняли контрмер, Мохова наверняка бы получила собрание сочинений. Говорят, что именно для неё похитили список громовских книг из Ленинки, но он не дошёл до Моховой – и в этом была заслуга не существующего ныне клана Степана Гурьева, бывшего золотодобытчика.
Его библиотека обитала на Алтае, возле приисков Багряный и Северный. Прииски были давно оставлены, и «читатели» разработали их по новой, добывая средства на жизнь и поиск Книг. Люди в гурьевской библиотеке попались бывалые. Известно, что приисками случайно заинтересовались залётные чеченцы. Самонадеянных выходцев с Кавказа сожгли, заманив в барак-ловушку…
Гурьевцы поймали курьершу с материалом. Старуха проявила исключительную жертвенность и успела съесть картонные таблички. Курьерше вскрыли пищевод, надеясь как-нибудь восстановить карточки. Были извлечены совершенно изжёванные, нечитаемые клочки, но по числу карточек можно было предположить, что Книг в природе семь.
Поиски требовали не только терпения, но и денег. Мохова своевременно устроила главным бухгалтером в собес своего человека. Ловкая бухгалтерша сделала так, что Дом как бы исчез из поля зрения официальных властей и при этом ещё многие годы находился на государственном финансировании.
Дом вмещал до четырёхсот «мамок». Поток пенсионеров не прекращался: мужчин, по установившейся привычке, сразу морили, а женщин ставили под ружьё.
Через два года Мохова обладала самой многочисленной и мощной армией среди всех кланов. Кроме прочего, возрастной состав «мамок» сравнительно помолодел. Мохова, на примере поварихи Анкудиновой и санитарки Басовой, поняла, что армия нуждается в более молодых рекрутах. Ветхие старухи показали себя отличными бойцами, но лишь когда Книга преображала их. В остальное время армия слабела в большинстве своём на две трети. Буквально через неделю после захвата Дома пошла вербовка свежих сил.
Идея вечной жизни в собственном теле во многом пересекалась с идеологией «Свидетелей Иеговы». Может, поэтому Мохова часто пополняла ряды средних лет сектантками – те охотно перемётывались на её сторону, предпочтя нож и топор распространению глупых брошюрок.
Старухи привлекли своих пожилых, но ещё крепких дочерей. Полуспившиеся, разведённые, просто одинокие, озлобленные на весь мир, они навсегда оставались в Доме, выбрав борьбу за бессмертие.
Сражаться никого не учили. Горн разумно допустила, что нет смысла нарушать старые рефлексы. Женщины получили в руки то, с чем имели дело всю жизнь. Деревенские бабы одинаково хорошо управлялись с топором, ножом, косой и цепом. Бывшим труженицам депо, заводов, строек, дорожным работницам выдали родные оранжевые безрукавки, ломы, кувалды, лопаты и кирки.
Надо сказать, вера в женскую слабость всегда была серьёзным заблуждением. За годы тяжёлого труда каждый организм накапливал в себе огромные мускульные силы. Женщины дряхлели психологически, забыв, что раньше они без устали махали ломами и топорами на стройках, таскали шпалы и части рельсов на железнодорожных работах, волокли вёдра и носилки, полные неподъёмного раствора.
Никого же не удивляла способность китайского мастера боевых искусств, тщедушного дедка, управляться с десятками молодых противников. Всю жизнь проработавшие женщины тоже обладали огромным физическим потенциалом. Нужная Книга только помогала вспомнить притупившееся ощущение Силы.
Пехота дорожных работниц и колхозниц, чьи тела, казалось, состояли из налитого, как свинец, мяса, разгромила кланы бывших соратников Шульги – Фролова и Ляшенко. Особенно отличилась в кровопролитных походах пятидесятилетняя крановщица Данкевич Ольга Петровна. Она настолько окрепла, что предпочла себе в оружие крюк от подъёмного крана, который держался на трёхметровом тросе. Удар этого кистеня уложил бы и носорога. Не один десяток читателей, включая и библиотекарей, приняли смерть от её чудовищного крюка.
Когда был ликвидирован клан Гурьева – Мохова жестоко отомстила за вскрытый пищевод курьерши, – стала очевидна нависшая угроза. Именно с того времени пожилая женщина надолго сделалась символом опасности, синонимом жестокого коварства.
В девяносто пятом году библиотеки объединились против тирании Моховой. У коалиции имелась ещё одна немаловажная задача – отбить Книгу Силы, находящуюся в распоряжении Моховой. Поговаривали, все всплывающие Книги Силы старательно уничтожаются, и, возможно, эта и без того редчайшая Книга теперь в единственном экземпляре. Как потом её собирались делить между собой библиотеки – неясно.
Высказывалось мнение, что Книгу Силы надо будет сжечь либо она должна стать общей, правда, никто не уточнил, каким образом. Этот вопрос замяли, чтобы не вносить сумятицы. В любом случае все были единодушны – с Моховой надо покончить.
Коалиционное войско включало в себя отряды шестнадцати библиотек – около двух тысяч человек из различных городов: Саратова, Томска, Перми, Костромы, Уфы, Красноярска, Хабаровска, Липецка, Свердловска, Пензы, Белгорода, Владимира, Рязани, Воркуты, Казани, Челябинска. К ним присоединились шестьсот ополченцев, выставленных читальнями.
Мохова бросила в бой почти тридцать сотен «мамок». Сама она благоразумно не участвовала в битве. Дружиной командовала Полина Горн.
Библиотеки и читальни
Читальней называлось небольшое формирование вокруг какой-нибудь Книги: Радости, Памяти, реже – Терпения.
Весь громовский мир начинался с таких маленьких общин. Появлялся одиночка, проникший в тайну Книги, и вокруг него образовывалась читальня – товарищи, которым он решился довериться. Если кто-то семейный попадал в читальню, то вскоре его близкие тоже оказывалась там, и к этому относились терпимо. У каждой верёвочки был свой конец, и на определённом этапе коллектив переставал пополняться.
Читальня была фундаментом, на основе которого могла со временем возникнуть библиотека. Случалось и обратное: в результате разборки небольшой по размерам клан сокращался до читальни.
Публика подбиралась разная, всех возрастов и профессий. Каждый читатель был свободен морально и, что немаловажно, финансово. Этим читальня выгодно отличалась от библиотеки, где люди отдавали часть зарплаты, так называемый взнос, на поиск Книг и поддержку организационных структур.
Как и в библиотеке, в читальне имелся руководитель – он назывался библиотекарем. Это был владелец Книги либо тот, кому читальня Книгу доверила. В планы читален не входил поиск Книг, люди удовлетворялись тем, что имели, соблюдая честную очерёдность.
Поначалу библиотеки и читальни не пересекались, хотя и знали друг о друге. Потом библиотеки накопили силы и Книги. Существование конкурентов противоречило их тоталитарным планам.
Читальни шантажировали и запугивали. Предлагали добровольно сдать Книгу, обещая место в библиотеке. Иногда Книги экспроприировали. У откровенного разбоя имелось официальное объяснение: читальни были объявлены рассадником переписчиков, и руководители крупных библиотек призывали остановить копирование любой ценой.
Из чёрного ниоткуда появились факельщики – исчадия, порождённые волей больших кланов. Факельщики нападали на читальни, выкрадывали Книги и сжигали. На библиотеках эти потери практически не отражались, в хранилищах во множестве имелись запасные экземпляры, а вот обездоленным читателям, лишённым единственной Книги, была одна дорога – в библиотеку.
На фоне этой противоречивой ситуации вознеслась на громовский небосклон звезда Моховой. После нескольких удачных налётов старух на хранилища влиятельных библиотек стало понятно – большой битвы не избежать. В северной полосе России нашли подходящее поле возле заброшенной деревни Невербино.
И тогда представители нескольких кланов, в том числе Лагудова и Шульги, обратились к читальням. За помощь в борьбе с Моховой в будущем им обещалась полная неприкосновенность. Поэтому под Невербино собралось столько добровольцев. Они съехались изо всех уголков страны, чтобы с оружием в руках постоять за свои читальни и Книги.
Невербинская битва
Отряды коалиции были организованы примитивно, по образцу русских войск на Куликовом поле. В штабе сидели люди, далёкие от современной тактики, но, как выяснилось позже, довольно практичные.
Авангардом построения были сторожевой и передовой полки, состоявшие из читален. За ними располагался большой полк, укомплектованный дружинами шести библиотек, с боков его прикрывали полки правой и левой руки, в каждом – по четыре сводных отряда. За большим полком укрывался клан Шульги, назвавшись запасным полком, а засадным полком в леске неподалёку стал отряд клана Лагудова, чья отборность в качестве войск была тоже относительной.
Из потайных хранилищ были извлечены Книги Терпения. Специальные чтецы, собрав вокруг себя группы человек по пятьдесят, срывая голос, прочли Книги, зарядив тела невосприимчивостью к ранам.
Аллюзии Куликовской битвы отразились в несостоявшемся поединке, на который вызвала всех желающих крановщица Данкевич, вращая над головой жутким крюком. Но в библиотеках не отыскалось своего Пересвета.
Бой начался около двух часов ночи. Накачанные силой «мамки» пошли в наступление на сторожевой и передовой полки. Понеся тяжёлые потери, ополченцы отступили.
На пригорке, в окружении гвардии, отдавала приказы Полина Горн. Увидев, что фронтальная атака исчерпала себя и грозит перейти в невыгодный затяжной бой, Горн, создавая численный перевес на фланге, бросила шесть сотен на полк левой руки, и он перестал существовать уже через пятнадцать минут, раздробленный молотками железнодорожных работниц.
Запасной полк Шульги, в чью обязанность входило не допустить обхода с фланга, оставил на произвол судьбы левый полк и, обогнув правый, устремился к возвышенности, где находилась ставка Горн.
Отряды, возглавляемые могучей Данкевич, вышли в тыл объединённых войск, создав реальную угрозу окружения. В спину прорвавшимся «мамкам» ударил засадный полк Лагудова. Внезапное введение в бой свежих сил незначительно изменило ситуацию. Коалицию спасло время. Действие Книги Силы частично исчерпалось – Книгу старухам прочли загодя, чтобы обеспечить силой, необходимой для марш-броска от железной дороги до Невербино.
В жестокой схватке пали телохранительницы Горн. Старуха, очень похожая на Горн, оказалась оттеснена бойцами Шульги. Она сражалась отчаянно, пока Шульга, подзуженный Книгой Ярости, не раскроил внезапно ослабевшей противнице голову.
Гибель военачальницы послужила сигналом массового бегства моховского воинства. Слабеющих на ходу старух гнали, как Мамая, до железнодорожной станции. Уцелело не больше нескольких десятков.
Ходили сплетни, что Горн удалось выжить – погиб двойник, сама же Горн и две дюжины ближайших соратниц, сохранивших прыткость, скрылись и спустя несколько дней благополучно добрались до своей цитадели – Дома престарелых. Но эту информацию предпочли не афишировать.
Многие кричали – мол, следует добить Мохову в её логове и взять Дом штурмом, иначе гидра отрастит новые седые головы, но это предложение замяли, аргументируя тем, что с Моховой покончено, у неё «вырваны зубы» – на месте ставки Горн был найден обгоревший обрывок Книги Силы. Считалось, что Горн, чуя поражение, уничтожила уникальный, вероятно, единственный экземпляр.
Цена победы была велика. Объединённые силы потеряли в схватке около тысячи человек, сотни получили ранения и увечья. Нет нужды говорить, что больше всех потеряли читальни.
Тела погибших снесли в глубокий овраг, закидали едкими удобрениями, чтобы ускорить разложение, присыпали сверху землёй, так что ямы не стало. В землю же бросили семена репейника и прочих быстрорастущих сорняков. Весной над оврагом выросли исполинских размеров лопухи, навсегда скрывшие тела павших под Невербино.
Возвращаясь домой, ополченцы, да и вожди изрядно потрёпанных библиотек с горечью, полушёпотом говорили, что невербинская бойня была нарочно спланирована аналитиками Моховой, Лагудова и Шульги, чтобы сократить непомерно разросшееся число людей, знающих о Громове. Сражение уменьшило этот мир на четверть.
Примерно тогда же сформировался новый орган власти и управления – Совет библиотек. Вышедший из боя с минимальными для своего клана потерями, влиятельный как никогда Лагудов продвинул идею, что председательствовать имеют право исключительно «натуральные библиотекари» – то есть те, кто самостоятельно проникли в суть громовских Книг. А таких официально после невербинской битвы оставалось всего двое – Лагудов и Шульга. Красноярский библиотекарь Смолич, рязанский Нилин и липецкая Авилова погибли.
Совет утвердил вердикт, обещающий читальням неприкосновенность. Была проведена тщательная перепись. Читальни обычно именовали по месту проживания, иногда название было производным от фамилии библиотекаря или основателя.
Все читальни, исключая лишь участников Невербино, обязывались платить в Совет десятину. Разумеется, доходы сознательно принижались, читатели стряпали фиктивные справки. Поэтому Совет ужесточил правила и заменил щадящую десятину единым годовым налогом – за каждую конкретную Книгу была назначена определённая сумма.
Забегая вперёд, нужно сказать, что Совет не остановился на достигнутом и окончательно прижал вольницу. В принудительном порядке читальни переводились на абонемент. Отныне Книга принадлежала читальне номинально, настоящим собственником был Совет, сдающий Книгу в аренду.
Был сформулирован и штрафной кодекс. Дважды крупно проштрафившаяся читальня именем Совета библиотек распускалась, а Книга подлежала изъятию. Неподчинение строжайше каралось.
В вину, к примеру, вменялось доказанное наличие переписчика или излишняя разговорчивость какого-нибудь читателя, воровство, утаивание новонайденной Книги – любое действие, способное поставить под угрозу конспиративность громовского универсума.
К сожалению, вердикт о неприкосновенности систематически нарушался, хотя бы потому, что далеко не все библиотеки признали его легитимность, к примеру, те, что не участвовали в битве под Невербино. Эти кланы, не входящие в Совет, действовали грубо и жестоко, как всякие захватчики. Если даже удавалось в сражении отстоять Книгу, то обескровленная читальня вскоре делалась лёгкой добычей мародёров или просто кланов-хищников.
Имели место и искусно подстроенные провокации. Достаточно было дважды скомпрометировать неугодную читальню, а уж Совет незамедлительно выносил решение о роспуске. Для подобных случаев были разработаны несколько реабилитационных социальных программ. Большим везением считалось, если читателей, не разлучая, приписывали к ближайшей библиотеке, причём само понятие «ближайшая» было относительным. Частенько приходилось ездить к Книге за сотню километров. Взносы и стоимость проезда – всё это ощутимо било по карману.
Чаще разыгрывался другой трагичный сценарий. Местная или региональная библиотеки отказывались принимать сразу всех чужаков, мотивируя тем, что они переполнены. Предпочтение отдавалось кандидатурам с мало-мальски приемлемой заработной платой, из которой потом высчитывались взносы. Читателей с малыми доходами расселяли в любые библиотеки, где имелись вакансии. Можно представить, что означало для жителя Омска распределение в Иркутск или Красноярск. Многие отказывались от переезда и переходили в разряд очередников, «терпил». Сломленные люди, как правило, опускались и ожесточались. Именно из таких Совет формировал отряды факельщиков. Наёмники охотно выполняли любые самые грязные поручения, ведь наградой за работу была Книга.
Несмирившимся читателям оставалось принять вызов, лицом к лицу встретить врага, многократно превосходящего численной силой. Понятно, чем заканчивались эти поединки, когда против двух десятков мужественных защитников читальни выходили сотни отборных бойцов, высланных Советом…
В это смутное время я стал библиотекарем. Моя читальня владела Книгой Памяти, и посещали её семнадцать читателей.
