Византия. Христианская империя. Жизнь после смерти
Tekst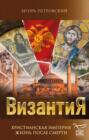


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 400 str.
- Kategoria: literatura historyczna, religioznawstwo, historia religii
Глава 5
Юлиан Отступник и великие каппадокийцы
350 год нашей эры. В крепости возле Кесарии Каппадокийской царило оживление: прибыл гонец из Константинополя. Он привез сообщение, что юношей, которые провели здесь под надзором пять лет, вызывают ко двору императора Констанция II. Один из них станет цезарем и его наследником.
Этих юношей звали Юлиан и Галл. Они были братьями. Их отца убили, скорее всего, по приказу правящего императора Констанция II во время так называемой Константинопольской резни 337 года. Констанций был их двоюродным дядей, поэтому, опасаясь за свой престол, он решил и племянников, единственных выживших каким-то чудом, удалить от двора. Их поселили здесь, в крепости близ Кесарии Каппадокийской. Нельзя сказать, что кесарийская крепость была для них чем-то вроде тюрьмы, вовсе нет, но за ними очень тщательно наблюдали, записывали каждый шаг. А еще их воспитывали здесь в очень строгой атмосфере, практически в монашеской, поэтому Галл находил себе утешение в каких-то военных упражнениях, а Юлиан тайно переписывался с языческим ритором Либанием и запоем читал книги по философии, которые ему каким-то образом проносил местный евнух. Когда стало известно, что Констанций остался бездетным, остро стал вопрос о престолонаследии, и тогда поняли, что единственными уцелевшими родственниками по прямой линии правящего императора оставались Галл и Юлиан, поэтому братьев, двоюродных племянников императора, срочно вызвали в столицу.
После смерти Константина Великого в 337 году империя была разделена между его сыновьями. На Западе правили Константин и Констант, а на востоке – Констанций. Отношения между братьями были натянутыми, поскольку Констант и Константин строго придерживались Никейского Символа веры, а вот Констанций покровительствовал арианам, отрицавшим единосущие Христа Богу Отцу. Правда, современные исследователи призывают аккуратно относиться к этому термину.
В действительности вот та позиция, которая очень скоро установилась после Никейского Собора, проистекала не из того, что это были последователи Ария. Они все почти отвергали Ария – одни совершенно отвергали, а другие немножко лукавили и говорили: как мы, епископы, можем быть учениками, последователями всего лишь пресвитера Ария. Но термин «единосущный», который вошел в Символ веры, вызывал возражения. Самое главное заключалось в том, что его нет нигде в священных книгах, то есть он заимствован из внешней философии.
Протоиерей Владислав Цыпин, доктор богословия, профессор МДА
По преданию, это ключевое для I Вселенского Собора определение предложил сам Константин Великий, но император не мог знать того, что у этого слова была предыстория. Дело в том, что за полстолетия до Константина на одном из поместных Соборов в Сирии была осуждена ересь епископа Антиохии Павла Самосатского, который для описания отношений между лицами в Троице использовал как раз таки термин «единосущный».
В чем тут дело? В том, что Павел Самосатский отвергал вообще личное бытие Сына Божия. И говоря о единосущии Сына Отцу, он попросту говорил о том, что на уровне высшем, чем земной, это одно и то же. То есть «единосущный» – это значит «один и тот же», в то время как никейский термин «единосущие» обозначает единство природы, сущности, при все-таки очевидном различии лиц, или ипостасей.
Протоиерей Владислав Цыпин, доктор богословия, профессор МДА
Но многих восточных епископов настораживала эта смена значения давно известного слова, а кроме того, они склонялись к мысли, что среди лиц Троицы должна быть определенная иерархия, ведь не зря Иисус Христос в Евангелии говорит: «Отец Мой более меня» (Ин. 14:28), поэтому к решениям Вселенского Собора они относились с подозрением. Ко времени правления Констанция практически все кафедры на Востоке империи были заняты арианами. Тем временем на Западе империи начался период смуты. В ходе гражданской войны сначала погиб Константин II, затем и его брат Констант. К 350 году Констанций остался единственным законным императором из династии Константина Великого, более того, единственным представителем – детей ни у него, ни у его погибших братьев не было, поэтому Констанцию волей-неволей пришлось вспомнить о своих двоюродных племянниках.
В 350 году Констанций объявляет своего двоюродного племянника Галла цезарем и поручает ему охрану восточных границ империи, а Юлиан получает долгожданную свободу и направляется в Грецию изучать философию неоплатоников в Афинскую академию, самое престижное учебное заведение тогдашнего языческого мира. Там Юлиан повстречает двух уроженцев уже знакомой ему Каппадокии. Их звали Василий и Григорий. Это были не кто иные, как будущие святители Василий Великий и Григорий Богослов. Вот интересное дело: великие христианские учителя учатся у язычников. Но в то время это никого не смущало. Молодое христианство понимало, что ему есть чему поучиться у языческого античного наследия, поэтому у Василия, Григория и Юлиана оказывается один учитель – философ-неоплатоник Проересий Армянин. Только каждый из них сформировался под его влиянием по-своему. Античное наследие сделало Василия и Григория величайшими христианскими богословами, а Юлиана – последним языческим императором Рима.
Карьера Галла при дворе была недолгой. В 354 году Констанций заподозрил его в заговоре и приказал убить. На следующий год титул цезаря получил Юлиан. Император женил наследника на своей сестре и отправил командовать войсками в далекую Галлию, где давно шла непрерывная война с германцами. В 357 году Юлиану удалось одержать крупную победу, перейти Рейн и разорить варварские поселения.
Его военные победы так хорошо помнились на Западе, что еще через поколение христианский поэт Пруденций будет писать в честь Юлиана довольно комплиментарные строфы: «Я помню храброго вождя, судью, известного деянием и словом, радевшего о благе государства, но не о сохранении веры, ведь возлюбил он мириад богов».
Михаил Ведешкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Вести о популярности Юлиана достигли и двора Констанция II. В 359 году он приказал племяннику отослать самые боеспособные легионы из Галлии на Восток под предлогом усиления армии перед походом в Персию, однако солдаты вместо этого провозгласили Юлиана императором. Обе стороны начали готовиться к войне, но в 361 году Констанций II неожиданно скончался.
Приехав в Константинополь в конце 361 года, когда Юлиан уже оказался единственным императором, он снова провозгласил эдикт о веротерпимости – тот же самый, практически дословно совпадающий с эдиктом Константина. С точки зрения права и вообще правового регулирования религиозной сферы основа остается незыблемой. Но при этом в эту веротерпимость теперь вкладываются несколько иные смыслы.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
При Константине и его преемниках привилегированное положение христианства держалось только на том, что это была религия императора. При Юлиане этого преимущества христиане лишились, а покровительство возвращается языческим культам. Император объявляет, что традиционная римская религия сделала империю великой и, чтобы вернуть величие, нужно вернуть милость богов.
Конечно, эта заявленная новая позиция государства спровоцировала столкновения, некий социальный взрыв на Востоке, и в течение 362-го и частично 363 годов происходит целая серия погромов, то есть основная масса римского населения начинает громить христиан, потому что, очевидно, к этим христианам накопилось множество претензий, прежде всего претензий в том, что они все теперь богатые. В этих погромах были жертвы, и есть некоторое количество христианских мучеников, которые почитаются Церковью именно в память об этих событиях.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
Нет никаких свидетельств, что Юлиан участвовал в организации этих погромов. Напротив, ему даже приходилось их успокаивать. Он хорошо знал историю Церкви и понимал, что это лишь увеличит число мучеников, поэтому он делал ставку на то, что Церковь сама распадется, стоит лишь вернуть из ссылки всех обвиненных в ереси.
Царствование Юлиана очень сильно ударило по группировке омиев – это партия, ориентировавшаяся на придворных богословов Констанция II Урсакия и Валента, условное «церковное болото», сторонников самых обтекаемых и размытых формулировок в тринитарном споре. Омии постулировали, что Бог Сын подобен Богу Отцу, а вот как Он подобен – по сущности, не по сущности, – они об этом не говорили. Юлиан, вступив на престол, дал различным течениям христианства свободу действия, епископы возвратились из ссылок, и баланс сил резко меняется. Начинается стремительное усиление, с одной стороны, никейцев, а с другой стороны – полуариан-подобосущников.
Михаил Ведешкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Конечно, Юлиан действовал, думая, что внутренние раздоры будут способствовать развалу Церкви, но, сам того не желая, даже помог сторонникам православного Символа веры. Вторым пунктом его программы был запрет на преподавание в христианских школах классических латинских и греческих авторов.
Одна из первых христианских школ, и одна из самых известных, находилась в Кесарии Каппадокийской. По возвращении из Афин именно в ней стали преподавать Василий Великий и Григорий Богослов. После того как император Юлиан решил запретить все христианское образование, эта школа, скорее всего, была закрыта. Мы даже не знаем, где она находилась. Кстати говоря, Григорий потом напишет специальное «Слово» в адрес Юлиана и обвинит его в трусости, в том, что он испугался прямого честного диалога и решил сделать образование только уделом язычников.
Общество того времени было, если можно так сказать, «литературоцентричным». Это была основа и культуры, и государственного управления, потому что все государство строилось на переписке между разными чиновниками, которым нелегко было встретиться друг с другом лично и переговорить накоротке; они все разнесены друг от друга разными регионами, морями… Это значит, что нужно уметь писать, нужно уметь внятно, грамотно и красиво излагать свои мысли, так, чтобы тебя понял не только человек, которого ты хорошо знаешь, но и человек, тебе совсем незнакомый.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
В свое время Георгий Острогорский в своей книге «История Византийского государства» отмечает такой момент: что есть Византия, византийская цивилизация? Он говорит, что это сплав трех элементов: правовая система, эллинистическая образованность и христианская вера.
Иерей Игорь Иванов, кандидат философских наук, заведующий кафедрой иностранных языков СПбДА
Отсутствие классического образования автоматически должно было закрыть христианам дорогу к государственной службе и вообще к какому-либо заметному положению в римском обществе. Судя по всему, Юлиан не ставил своей целью уничтожить христианство. Он хотел сделать эту религию маргинальной, незначительной в составе империи, одной из многих. Возможно, христиане в те века снова стали перебираться из города, где стало небезопасно, в те места, где недавно прятались в эпоху Великого гонения, – там они могли чувствовать себя спокойно.
Когда Юлиан Отступник взошел на престол, среди учителей Каппадокийской школы Григория и Василия уже не было. Они были отозваны в свои родные города для помощи в управлении епархиями: Василий – в Кесарию, а Григорий – в Назианз. Но вот их влияние на монашескую, да и вообще церковную жизнь по всей Малой Азии было просто колоссальным. Ведь монашество в то время только зарождалось. Его эпицентром были пустыни Египта и Палестины, поэтому туда, в Сирию и в Фиваиду, и отправился Василий для того, чтобы познакомиться с этим явлением поближе. Когда он вернулся, он основал свой первый маленький монастырь прямо у себя в поместье, в своем родовом гнезде, на берегу Черного моря. Именно туда и приезжает его друг по Афинской академии Григорий. Там они создают первый монашеский устав в Малой Азии – и это, конечно, колоссальным образом повлияло на все последующее развитие монашества, так что в определенном смысле можно сказать, что малоазийские монастыри, пещеры, монастырские церкви и кельи – это духовное наследие двух великих святых, Григория и Василия.
В современной турецкой Каппадокии сохранились те уникальные монастыри. В одном из них, на территории древней Матианы (нынешний турецкий Гёреме), можно до сих пор видеть на стенах уникальные изображения креста, из которого как бы прорастают множественные ветви. Замысел автора вполне очевиден. Крест – это символ жизни, христианский знак, который даровал человечеству новую жизнь в воскресшем Спасителе. Это самая важная религиозная святыня Нового Завета. Поэтому крест – это не просто предмет из мертвого дерева. Он живой, это древо может произрастать, может давать побеги. Позже на Афоне появится знаменитый «проросший» афонский крест, а в скальных церквях Гёреме мы находим начало этой ставрографической традиции, искусства изображения креста, которое относится к раннему периоду истории монашества.
Как это ни странно, причины быстрого распространения монашества были в том же, в чем, вероятно, состояли причины реформ Юлиана – это обмирщение Церкви. Когда христианские общины захлестнул поток новообращенных, многие из которых принимали веру лишь ради престижа, формально, ответом на это стало появление монашества. Но что может быть еще более удивительно, именно в монашестве отчетливо проявились связи с античной культурой.
Монашество вобрало в себя традиции античной философии, например стоицизма и аристотелизма, учения о добродетелях. К примеру, в сборнике «Добротолюбие», где собраны различные сентенции, афоризмы, как подобает себя вести подвижнику, как стремиться уподобиться Христу в добродетелях, и мы можем там наблюдать, что некоторые добродетели сформулированы так, как это сделано в античной традиции, то есть некоторые вещи прямо перешли из нее в христианскую духовную практику.
Иерей Игорь Иванов, кандидат философских наук, заведующий кафедрой иностранных языков СПбДА
Ядро и содержание сложившейся культуры было, конечно, христианским, а вот его, собственно, культурная оболочка, культура в узком смысле слова, безусловно, включала в себя элементы античной классической традиции.
Протоиерей Владислав Цыпин, доктор богословия, профессор МДА
Каппадокийские монастыри, расположившиеся в горных пещерах, представляли собой весьма сложный социальный уклад. Тут были не только кухни, кельи, храмы и скотные дворы, но и школьные классы с библиотеками. Самым оберегаемым местом системы монастырей в Гёреме была монастырская сокровищница, где хранились сосуды для литургии и манускрипты. В сокровищнице была оборудована целая система сейфов в стенах, которые запирались на замок. Такой монастырский комплекс в скале мог насчитывать одиннадцать этажей вверх. Конечно же, во времена Василия и Григория пещерный монастырский комплекс был не столь сложен – все было гораздо скромнее, но со временем основанная ими монашеская республика в Каппадокии разрослась до колоссальных размеров.
Юлиан Отступник правил совсем недолго, с 361 по 363 год. На Востоке к этому времени уже почти тридцать лет шла война в Персией, где у власти находилась династия Сасанидов, правда, вот уже много лет военные действия велись только в приграничных областях и небольшими силами.
Юлиан решил провести, так сказать, эскалацию конфликта и ударить по Персии главными силами римской армии, отчасти будучи некоторым образом мистически, романтически убежден в том, что он – полководец, равный Александру Македонскому, и является чуть ли не воплощением Александра, то есть некий дух Александра живет в нем.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
Направляясь к своим войскам, собранным для похода против персов, император Юлиан непременно должен был проехать древнюю Анкиру. Естественно, городские власти готовились к этому высокому визиту. Весь город был украшен какими-то флагами, цветами, горожане должны были везде стоять, выкрикивая радостные, хвалебные лозунги в адрес императора, а на центральной площади воздвигли так называемую колонну Юлиана. Она до сих пор сохранилась в турецкой Анкаре, а в основании колонны можно видеть памятную надпись: «Этот монумент был построен в 362 году в честь визита в Анкару римского императора Юлиана». Однако сам визит был омрачен одним неприятным для Юлиана эпизодом. Дело в том, что в местной тюрьме томился священник по имени Василий, которого уже много раз пытались склонить к язычеству, но он сопротивлялся. Юлиан решил лично допросить непокорного пастыря и, так сказать, сломать его. Однако что-то пошло не так. Говорят, что во время этой самой встречи Василий не только не испугался грозного Юлиана, но и произнес в его адрес весьма смелые и страшные слова. Это было пророчество, которое в точности сбудется. Он сказал: «Бог, чьи алтари ты поверг, повергнет тебя самого, и твое тело будет попрано лошадьми и останется без погребения!» Это был вопиющий вызов, брошенный в лицо императору не просто каким-то одним из пресвитеров. Это был вызов, брошенный гонителю от лица всей анкирской Церкви. Юлиан не смог выдержать такого позора и замучил Василия до смерти.
Кроме исторической колонны Юлиана в Анкаре сохранился и языческий храм божественного императора Августа. Вероятно, после встречи со святым мучеником Василием Анкирским Юлиан решил, что его персидский поход – это определенная проверка его религиозных взглядов. Если он победит персов, то, соответственно, языческие боги его поддерживают, и тогда с Церковью можно будет не церемониться. Византийский историк Созомен приписывает Юлиану слова, которые, вполне возможно, император произносил именно в анкирском храме Августа: «После этой войны церквям станет худо, и никакой сын плотника их уже не спасет». Обратите внимание: Юлиан подчеркнуто называет Христа сыном плотника. Он прекрасно знал христианское учение: «прочел, понял, отверг» – таким был его приговор после прочтения Евангелия, – поэтому Юлиан особо акцентирует, что Христос для него – не Сын Божий, а именно сын плотника. Так что христиане с ужасом ожидали завершения всей этой персидской кампании фанатичного императора.
Юлиан не просто отстаивал традиционные ценности. Он был посвящен во все возможные языческие мистерии античного мира, которые были известны. Он с утра до ночи занимался чем-то там со жрецами, они разрабатывали новые реформы для языческих культов, для объединения иерархии языческих жрецов. Все это его увлекало.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
Еще Григорий Богослов писал, что Юлиан Отступник во многом пытался реформировать язычество по христианскому образцу, создать из разрозненных языческих культов единую систему – языческую церковь.
Новшеством стало создание при нем некоего языческого катехизиса. Эти функции, судя по всему, выполнял написанный соратником Юлиана, префектом Галлии Саллюстием, трактат «О богах и мире», где буквально на двадцати-тридцати страницах описывалась сущность языческого богопочитания.
Михаил Ведешкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Проезжая по городам Малой Азии, Юлиан посещал все языческие храмы. Он сам выступал с речами, которые весьма походили на проповеди, писал множество писем, в которых настаивал на необходимости возвращения к древним обычаям и сокрушался о том, что языческие ритуалы утратили популярность.
В Антиохию Великую Юлиан прибыл для последних приготовлений перед судьбоносным походом против персов. Но прежде всего он решил посетить местный языческий храм, для того чтобы узнать волю богов о всем своем предприятии. В то время в пригороде Антиохии, в местечке под названием Дафна, находился известный всему римскому миру храм Аполлона. Туда Юлиан и направляется, чтобы послушать местного оракула. Однако, как свидетельствует христианский историк Созомен, оракул ничем ему не помог, а только пожаловался на то, что дар его улетучился и он больше не слышит никаких голосов и не видит будущее. А помешали ему мощи святого мученика Вавилы, которые христиане перенесли в церковь недалеко от храма Аполлона. Вавилу с кладбища перенесли туда для поклонения – и все, оракул замолк. Он больше не видел будущего, он больше не слышал никаких голосов. Юлиан, конечно же, приказывает вернуть мощи обратно на кладбище, и этот приказ исполняют. Но, как свидетельствует уже языческий историк Аммиан Марцеллин, в этот же день храм Аполлона вспыхнул каким-то страшным пожаром и сгорел дотла. Император тут же обвинил во всем христиан и приказал в отместку закрыть в Антиохии кафедральный собор.
Император надеялся, что антиохийцы, большинство которых в то время были язычниками, поддержат его антихристианские настроения, но в своих ожиданиях обманулся. Из собственных сочинений Юлиана мы знаем, что в городе ходила шутка: мол, ни Христос, ни Констанций ничем нас не обидели, а вот Юлиан с его требованиями дотошно исполнять языческие ритуалы порядком надоел. Так что весной 363 года, так и не добившись в Антиохии народной любви, Юлиан выступил в поход. Он переправился через Тигр и двинулся к столице Государства Сасанидов Ктесифону.
Попытка осаждать Ктесифон была бессмысленна, потому что понятно, что город был защищен стенами и гарнизоном, но с другой стороны, вне этого города находилась большая полевая маневренная персидская армия, которая была известна своей многочисленной, очень хорошо организованной конницей, и осаждать город, имея эту армию в тылу, было просто невозможно.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
Простояв у города две недели, Юлиан приказал снять осаду и пустился в погоню за главными силами персов. Но те применили против него скифскую тактику. Они отступали, опустошая страну, отравляя колодцы и заманивая Юлиана все глубже в безлюдные земли. Когда император понял, что нужно поворачивать назад, было уже поздно.
А дальше разворачивалась история, полная удивительных символов и параллелей. Дело в том, что, согласно Книге Деяний, христиан впервые стали называть христианами в Антиохии Великой. И именно здесь, в Антиохии Великой, христианам впервые запретили именоваться христианами по приказу Юлиана Отступника. Находясь в Антиохии, он вывесил указ, согласно которому христиан теперь следует именовать исключительно «галилеянами». Разница была существенной. Юлиан понимал, что в имени «христианин» уже содержится короткий Символ веры, – веры в то, что Иисус есть Христос, то есть помазанник Божий, обетованный Мессия. А в наименовании «галилеяне» только подчеркивается, что эти люди верят в какого-то провинциала из Галилеи. Юлиан это прекрасно понимал. И как по-особенному в этой связи звучат его последние, предсмертные слова, которые он буквально выкрикнул за минуту до смерти! Получив ранение на поле брани в битве с персами, уже умирая, он кричит куда-то в небо: «Ты победил, Галилеянин!» – то есть он признает, что Иисус – это нечто большее, чем просто плотник из Галилеи, но продолжает именовать его этим словом. Безумный, безумный упрямец, – как скажет про него современник. Его неоязыческий проект не прожил и часа после гибели автора. Не успело тело Юлиана еще остыть, как войска прямо тут, на поле боя, выбирают нового императора, ближайшего помощника Юлиана, командующего по имени Иовиан, – и в ту же минуту Иовиан объявляет, что он христианин. Вы понимаете, что это значит? Что даже самое ближайшее окружение Юлиана не разделяло его языческий пафос. Он просто всем надоел.
Правление Иовиана было недолгим. Он умер в следующем, 364 году. Новыми правителями стали два брата: Валентиниан на Западе и Валент на Востоке. Валент придерживался арианских взглядов, поскольку ариане еще со времен Констанция контролировали почти все епископские кафедры Востока. Исключениями были Александрия, где правил Афанасий Великий, и Каппадокия, где проповедовал Василий Кесарийский.
В 365 году в Кесарию Каппадокийскую прибывает император Валент. Цель визита одна: склонить на сторону ариан местного архиепископа Евсевия и его советника Василия. Однако ничего не выходит. И тогда Валент решает воздействовать на кесарийскую кафедру, как бы мы сейчас сказали, посредством экономического рычага. Он делит единую епархию на две, тем самым лишая ее большей части доходов. Положение казалось настолько плачевным, что Евсевию Кесарийскому пришлось закрыть большую часть церковных училищ и благотворительных учреждений. Но когда после смерти Евсевия в 370 году новым архиепископом Кесарии Каппадокийской становится Василий Великий, он не признает это разделение императора Валента. Более того, чтобы православные на местных соборах имели большинство голосов, он внутри своего диоцеза основывает новые епархии, учреждает их в каких-то городах, селах, иногда даже в захолустьях. Он приглашает на них своих православных друзей, родных. Так, например, святительский сан тогда получил его родной брат, святитель Григорий Нисский, или его самый близкий друг святитель Григорий Богослов.
Несмотря на попытки ослабить влияние Василия, никаких репрессий ни против него, ни против его сторонников Валент не применял. К самому святителю император относился с большим уважением и к тому же нуждался в его помощи для проведения своей политики в Армении, где влияние каппадокийской кафедры было невероятно сильным, так что в конце концов кесарийскому епископу удалось добиться огромных успехов во внутрицерковных спорах.
Василий своими богословскими трудами и умелой внутрицерковной дипломатией делал все для того, чтобы объединить разрозненные группы никейцев, в частности примирить твердокаменных староникейцев со сторонниками подобосущия. Ему в итоге это удалось в значительной степени, несмотря на то что Александрия и Рим очень долго сопротивлялись этому альянсу.
Михаил Ведешкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН
Василий Великий употребил наконец слово, ставшее одним из важнейших терминов нашего богословия, «ипостась», в том самом смысле, в каком мы его с тех пор употребляем. Ипостась – это обозначение, например, стола по отношению к дереву. Вот дерево из дерева сделано, а каждое конкретное деревянное изделие – это будет ипостась этого дерева. Василий Великий употребил слово «ипостась» для того, чтобы показать, что природа одна и та же у Отца, Сына и Святого Духа, но каждый из них представляет собой отдельное лицо, или отдельную ипостась.
Протоиерей Владислав Цыпин, доктор богословия, профессор МДА
Термин «ипостась» был заимствован христианскими богословами из античной философии. Применив терминологию, разработанную Аристотелем и Плотином, великим каппадокийцам удалось сформулировать непротиворечивое православное учение о едином Боге Троице, которое легло в основу нашего Символа веры.
Стоит упомянуть, что с именем Василия связано появление первой в мире больницы в современном смысле этого слова. В античном мире лечение в основном производили на дому – то врач придет к больному, то больной придет к врачу, а в лечебнице Василия больных, как бы мы сейчас сказали, содержали в стационаре до их полного выздоровления. Масштабы этой больницы были настолько велики, что святитель Григорий Богослов называл ее «настоящим городом», которому местные жители дали имя «Василиада». Василий не только занимался поиском средств для поддержания этой больницы, но и сам в ней лечил, потому что среди прочего у него было и медицинское образование. Так что наши представления о Василии только как о великом христианском богослове или политике неполные. Архиепископ Кесарии Каппадокийской лично перевязывал раны в отделении больничного лепрозория.
Тем временем над Римской империей нависла новая угроза. Кочевники-гунны, двигаясь с востока, сметали все племена и народы, стоявшие у них на пути. К середине 370-х годов они сокрушили Готское королевство, располагавшееся на равнинах Восточной Европы. Спасаясь от них, орды готов подошли к Дунаю и оказались у границ Римской империи.
Это несколько сотен тысяч беженцев. Мы, к сожалению, не знаем точных цифр – примерно двести, триста тысяч человек, то есть огромная масса населения, которая голодает, которая мрет от голода, соответственно, которая находится под угрозой уничтожения, резни, и они все бегут куда-то, бегут к Риму, на территории империи, для того чтобы спастись.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
Готы прислали посольство в Константинополь с просьбой дать им землю на западном берегу Дуная. В обмен они согласны были служить Римской империи и защищать ее границы. Римляне называли таких поселенцев «федератами». Валент согласился. Но вскоре оказалось, что земля, которую выделили готам, неплодородная, и что припасы, которые направил им император, то ли расхищены чиновниками, то ли испорчены. Среди готов начался голод, и они взялись за оружие.
Уже где-то с 376 года начинаются военные действия на Балканах, и тут очень быстро выясняется, что в этой войне готы на самом деле очень сильный противник – это не просто какие-то группы, войска или дружины, которые вторгались на территорию империи раньше, как это было всегда, когда речь шла о набегах варваров. Здесь они переселились всем народом. Это огромная масса, которая может мобилизовать своих мужчин, и из них получается большое войско.
Илья Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель ПСТГУ
В 378 году, под Адрианополем, в битве с готами император Валент погибает. Для внешней политики империи это была настоящая катастрофа. Германские племена хлынули через западные границы – и вскоре начнется эпоха варварских королевств. А для Церкви это означало конец эпохи правления императора-арианина. На престол взошел Феодосий, которого впоследствии назовут великим. Он сразу приступит к созыву Вселенского Собора, на котором будет утверждено православное учение о Святой Троице. Но Василий до этого не доживет. В 379 году, на сорок девятом году жизни, святитель умер, и его великое дело пришлось продолжить соратникам: Григорию Богослову и Григорию Нисскому.
