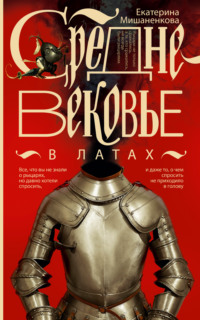Czytaj książkę: «Средневековье в латах», strona 4
Вопросы образования
В какой-то степени обучение будущих рыцарей очень напоминает обучение будущих ремесленников. Те были сначала учениками, бесправными и бесплатными, потом становились подмастерьями – квалифицированными работниками, получающими жалованье, и только если у них хватало денег или удачи открыть свое дело, они превращались в мастеров – полноправных и весомых членов общества. Дворянские же дети точно так же сначала были пажами, и прав у них было практически столько же, сколько у учеников ремесленника. Получив необходимые знания и навыки, они получали звание оруженосца и должны были носить его до достижения 21 года (при отсутствии особых обстоятельств), после чего могли быть посвящены в рыцари. Но на самом деле стать рыцарем кому удавалось, кому нет – в те времена это было делом недешевым и хлопотным. Не всем это было по карману. А некоторые и добровольно предпочитали на всю жизнь оставаться в звании оруженосца.
И сразу проясним вопрос с чтением и письмом. В архивах сохранилось немало писем, в том числе и от средневековых рыцарей, адресованных их дамам, сеньорам, вассалам и просто другим рыцарям. Часть из них написана секретарями, на остальных же есть приписка «писано собственной рукой такого-то». Это очень важная пометка, означающая, что отправитель умеет не только читать (это умели практически все приличные люди, включая женщин), но и писать.
Современному человеку трудно понять, в чем разница. Мы-то сейчас читать и писать учимся почти одновременно. Но в Средние века все было по-другому. Вспомните про крестики вместо подписей королевских чиновников в IX–X веках. Неужели кто-то в здравом уме дал бы составлять и подписывать документы людям, не умеющим читать? Естественно, нет, мало ли что им там подсунут для подписи и печати.
Все объясняется просто – в Средние века читать и писать учились по-разному, и это были два совершенно отдельных процесса. Поэтому множество людей умели читать – кто-то бегло, кто-то с грехом пополам, но при этом совершенно не умели писать, как, например, император Карл Великий, прекрасно знавший несколько языков, но так и не одолевший правописание. Хотя, вполне возможно, что конкретно у Карла просто была дислексия.
Как людей в Средние века учили читать? Не по буквам, а по словам и целым речевым конструкциям. Кто изучал иностранные языки по различным ускоренным методикам, поймет, о чем идет речь. В Средневековье для этого часто использовались молитвы (если учились читать на латыни) или какие-то простые, всем известные тексты, постепенно позволяющие запомнить слова и сформировать навык чтения.
В принципе, так научиться читать можно даже самостоятельно и уж точно – с помощью любого другого умеющего читать человека. Конечно, с таким подходом умение читать бегло напрямую зависело от количества и разнообразия прочитанных текстов. Но для большинства людей огромный словарный запас и не требовался – читали они в основном королевские указы, деловые письма и записи в бухгалтерских книгах, а там словарь довольно ограниченный. И, конечно, умение читать не означало, что человек был способен прочитать любую книгу, – так же как сейчас не каждый сможет понять, например, медицинский или хотя бы юридический текст. Уровень грамотности и словарный запас у всех читающих был разный.
Кстати, в Средние века почти никто не умел читать про себя, мысленно, это считалось редким умением, признаком высокой образованности, а подавляющее большинство людей умело читать только вслух.
Умение писать считалось отдельным, не связанным с чтением навыком. Этому учили примерно как сейчас – сначала буквы, потом их сочетания, дальше слова, словосочетания и, наконец, предложения. Это требовало времени, сил и денег – учителю надо было платить. Поэтому если читать к XIV веку в городах умело большинство населения, то писать – 20–25 %(в деревнях – от силы 5 %). Чем глубже в Средневековье, тем эта цифра, разумеется, ниже, зато в XV веке уровень образования рванул вверх настолько, что понадобилось книгопечатание, чтобы удовлетворить растущий спрос на литературу.
Конечно, чтобы писать полноценные письма, со всеми куртуазными «расшаркиваниями», нужно было не только в принципе уметь писать, но и обладать довольно большим словарным запасом и опытом написания писем. Уже в XIII веке существовали специальные сборники типовых текстов – жалоб, поздравлений, деловых писем и т. п., которыми пользовались для того, чтобы составить достойное послание. Здесь, кстати, стоит вспомнить, что в Средние века, до изобретения книгопечатания, любая книга переписывалась от руки и стоила очень дорого, даже простой сборник текстов, без картинок.
Так что пометка «писано собственной рукой» ставилась не зря, написать хорошее письмо – это было умение, которым по праву гордились.
Церемония посвящения в рыцари
Итак, мальчик учился быть рыцарем, вы-учился всему, чему положено, превратился в юношу, и пришло его время становиться рыцарем. Оставим пока в стороне денежный вопрос, который со временем сильно сократил количество желающих быть рыцарями, остановимся для начала на самой церемонии.
Здесь я просто предоставлю слово крупнейшему авторитету в области рыцарства: Жан Флори17 в «Повседневной жизни рыцарей в Средние века» пересказывает описание этого обряда, каким он был в XII веке. Уже упоминавшийся Жоффруа Анжуйский18 был посвящен в рыцари на Троицу, 10 июня 1128 года. Происходило это действо в Руане, и было Жоффруа, напоминаю, пятнадцать лет – довольно мало, но политическая ситуация заставляла торопиться.
«Сначала Джефри и тридцать юношей, которые вместе с ним проходили обряд посвящения, приняли очистительную ванну, – пишет Флори, – затем он и его сотоварищи были облачены в белые льняные туники и в пурпурные плащи. В таком одеянии они и предстали перед публикой в окружении своего эскорта. Приводят коней, приносят оружие и прочее вооружение (доспехи), то и другое распределяется между ними “согласно их нуждам” (наверное, следует понимать: согласно их рангу); к Джефри подводят великолепного испанского жеребца и надевают на посвящаемого богато изукрашенную двойную кольчугу (“такую, что ни дротик, ни копье никогда не смогли бы ее пробить”); к защищающим его ноги “чулкам” из кольчужных колец присоединяют золоченые шпоры; на его шею вешают щит, украшенный двумя золотыми львами (и ныне на хранимой в Мансе эмалевой пластине, представляющей Джефри во всеоружии, можно разглядеть этот щит); на его голову надевают шлем (в ту эпоху еще оставляющий лицо открытым), шлем украшен россыпью драгоценных камней, “против которой бессилен любой меч”. Ему подносят копье с древком из ясеня и с острием “из стали Пуату”. Ему, наконец, преподносят и меч, извлеченный из королевской сокровищницы и имеющий на своем лезвии подпись Вайланда (Wayland), легендарного мастера, который его выковал».
Историки могут благодарить за это описание Жана де Мармутье, который в районе 1180 года написал «Историю Жоффруа, герцога нормандцев и графа анжуйцев». Предназначалась эта книга английскому королю Генриху II, сыну Жоффруа, и по дате можно догадаться, что Мармутье вряд ли лично присутствовал на церемонии посвящения. Однако даже если в деталях что-то было и не так, в целом нет причин сомневаться в правдивости описания, потому что и в средневековой литературе, и в более поздних хрониках описывалось нечто похожее. То есть это была пышная долгая церемония, ритуал и шоу одновременно, и чем знатнее был посвящаемый, тем богаче и торжественнее было мероприятие.
Религиозная сторона
Со временем этот церемониал несколько видоизменился, в основном потому, что приобрел более религиозную окраску. Я уже писала выше о том, как складывалась рыцарская культура, но делая упор на ее светскую сторону, на то, как и почему рыцарский кодекс чести продвигали светские государи. Но церковь, конечно, тоже внесла свою лепту в формирование феномена рыцарства, что совсем неудивительно – она была великой силой, скреплявшей средневековую Европу, и ее влияние можно заметить во всех сферах жизни. И уж тем более церковь не могла оставить без присмотра людей, в чьих руках оружие, а следовательно, и власть.
Можно без преувеличения сказать, что все Средневековье церковь прилагала много усилий, чтобы контролировать рыцарство и использовать идеологию войны в своих целях. В благих целях, по мнению католических иерархов.
Нельзя сказать, чтобы они были так уж неправы. Конечно, сейчас основной результат влияния церкви на рыцарство – Крестовые походы – не кажется таким уж благим делом. Жестокая и кровавая экспансия на восток, которая в итоге закончилась тем, что христианам все равно пришлось оттуда отступить да потом еще несколько столетий отбиваться от мусульман уже на своей территории. Не говоря уж о том, что крестоносцы поспособствовали падению православной Византии. Но кто знает, что стало бы с Европой без этих походов. Церковь подвела под идеологию насилия религиозный базис и направила рыцарей совершать подвиги где-нибудь подальше, ослабляя тем самым накал страстей и в самой рыцарской среде, и между европейскими государствами.
И нельзя сказать, чтобы сделать это было так уж просто. Если внимательно прочитать описание церемонии посвящения Жоффруа в рыцари, то можно заметить, что в ней нет никакой религиозной составляющей, это чисто светская церемония, которая корнями явно тянется из воинских традиций варварского Раннего Средневековья.
Однако и сама рыцарская куртуазная культура в то время только начала складываться, так что церковь поспела вовремя, чтобы сделать свой весомый идеологический вклад в образ идеального рыцаря, служащего Богу, своему сеньору и Прекрасной даме.
Как я уже упоминала, средневековое общество формально делилось на три сословия – тех, кто молится, тех, кто сражается, и тех, кто работает. Эта система в XII веке была по средневековым меркам еще довольно молодой, она родилась всего лет сто назад и еще не успела устояться и прижиться. Но вот в нее-тоцерковь в лице своих богословов и проповедников и стала вписывать рыцарство, практически монополизировав за ними сословие «тех, кто сражается». По сути, получалось так, что церковь благословляет молодых людей на получение рыцарского звания и дает им напутствие, как правильно поступать, тем самым подчеркивая их благородство и элитный статус. Но таким образом она оставляла за собой и право осуждать и даже карать тех, кто эти правила нарушит.
Можно сказать, рыцари и сами не заметили, как стали получать меч (причем теперь обязательно освященный) из рук священника, начали клясться защищать веру, и вообще весь ритуал посвящения насытился религиозной символикой. Но это была вполне логичная эволюция и обряда, и самой рыцарской культуры. Во-первых, как я уже сказала, начались Крестовые походы, христианство стало откровенно и даже официально воинствующим, и те, кто шли воевать против неверных, так и так ощущали себя воинами Господа. Не зря пик насыщенности церемониала посвящения в рыцари религиозными символами пришелся именно на XIII век, за который крестоносцы успели сходить в шесть Крестовых походов.
Во-вторых, высокая религиозность рыцарства и его приверженность христианским идеалам были на руку и светским государям, поэтому быстро произошло сращивание воедино служения Богу, сеньору и даме.
Ну и, наконец, дело было в самой католической церкви. В это время она как раз активно подминала под себя все сферы жизни и деятельности человека. Я уже не раз писала, что в раннехристианский период церковь еще не сформировалась как политический институт и занималась в основном размышлениями о душе и способами попасть в рай, во многом будучи очень оторванной от реальной жизни. Но время шло, церковь превратилась в серьезную политическую, культурную и социальную силу и стала наверстывать все то, что упустила в первые века своего существования.
Не зря именно тот же XIII век считается переломным и в брачно-семейных вопросах – церковь пыталась взять их под полный контроль с VIII века, воевала за них со светской властью на местах, но только в XIII веке вопрос был решен окончательно, и в дальнейшем уже никто не мог нарушать установленные церковью правила христианского брака. Тогда же, в XIII веке, Папа Римский запретил Божий суд и создал инквизицию для борьбы с ересями. И все слушались! То есть с конкретным Папой могли и воевать, но против церкви в целом никто не решался идти, именно в это время она стала сильна как никогда прежде и так или иначе удерживала свою власть вплоть до Реформации.
Хотя, конечно, за пиком последовал некоторый спад, который сказался и на рыцарстве – уже в XIV веке оно начало снова становиться все более светским, а обряд посвящения все чаще проводился по упрощенной процедуре – тот самый тройной удар мечом по плечу на поле боя или после турнира, который все мы не раз видели в кино. А XIII век с его сложным церемониалом и религиозной наполненностью стал вспоминаться с ностальгией как золотой век рыцарства.
Что поделать, Крестовые походы провалились, рыцари перестали ощущать себя крестоносцами, несущими язычникам свет веры. А тут еще и XIV век с его чумой, похолоданием, голодом и вымиранием половины Европы. Мир сильно изменился, и рыцарство изменилось вместе с ним.
Молодые рыцари
Но вернемся к молодым людям, только что посвященным в рыцари. С одной стороны, конечно, их статус сразу повышался, но с другой – надо понимать, что рыцари не были равны между собой. И здесь я даже говорю не о рыцарях-бакалаврах и рыцарях-баннеретах19, а о том, что в рыцарском сообществе существовала своя негласная иерархия в зависимости от опыта, возраста, социального положения и т. д. И на низшей ступени стояли как раз молодые холостяки, вчерашние оруженосцы, которые получили заветное звание, но не имеют за душой ни серьезного боевого опыта, ни какого-то стабильного материального и социального положения. Исследователи рыцарства обычно объединяют их под тем или иным термином, смысл которого сводится к слову «молодежь», причем с некоторым пренебрежительным оттенком – как бы «эх, молодежь…» Так что я их тоже буду называть молодежью.
Этим молодым людям предстояло еще доказать всем, что они не зря были сочтены достойными стать рыцарями. А что это означало? В идеале – совершить подвиг, а в широком смысле – как-то так проявить себя, чтобы выделиться из толпы. Конечно, эти молодые рыцари были из разных семей – кто-то сын мелкого помещика, а кто-то и сын короля. Но даже для юношей, не имевших за душой практически ничего, кроме меча, коня и рыцарского звания, были открыты кое-какие пути. Можно было прославиться на поле боя, а если повезет, то там же и обогатиться, взяв в плен какую-нибудь важную персону. Можно было стать знаменитым турнирным бойцом, это тоже был путь к славе, а поначалу еще и к богатству (пока действовало правило, что вооружение побежденного переходит к победителю или он хотя бы платит выкуп), ну или, по крайней мере, способ обратить на себя внимание какого-нибудь крупного феодала и попасть в его свиту, а уж там сделать карьеру. Можно было даже очаровать богатую наследницу и путем брака устроить свое будущее – кстати, тут больше всего шансов опять же было у знаменитых турнирных бойцов.
Уильям Маршал – лучший рыцарь христианского мира
Уильям Маршал (1146/1147 – 1219) был младшим сыном, поэтому, хотя его семья была достаточно состоятельна, ему от родителей ничего не досталось, кроме вьючной лошади и слуги. Даже боевого коня ему одолжил знатный богатый рыцарь, у которого он сначала учился, а потом служил. Но на первом же турнире, на который ему удалось попасть, Маршал захватил четырех боевых коней, чем тут же заслужил к себе уважение со стороны других рыцарей. Было ему тогда около девятнадцати лет.
Через несколько лет, прославившись как знаменитый турнирный боец, Маршал поступил на службу к своему дяде, который в недавней гражданской войне правильно выбрал сторону, благодаря чему стал графом. Вскоре они отправились сопровождать красу всех королев, блистательную Алиенору Аквитанскую, и угодили в засаду. Чтобы дать королеве возможность добраться до замка и там укрыться, они остались с малым отрядом, чтобы задержать противника. Дядя Маршала погиб, остальные через некоторое время сдались в плен – кроме Маршала: он продолжал отбиваться, пока его не ранили и не схватили. Алиенору это так впечатлило, что она лично его выкупила и взяла в свою свиту.
А еще через пару лет двадцатитрехлетний рыцарь был назначен советником наследника престола, молодого принца Генриха. На пару с принцем они устроили турне по турнирам, где Маршал вновь проявил себя как блестящий боец и заработал кучу денег. Но через несколько лет они с Генрихом поссорились, потому что тот приревновал к Маршалу свою жену. Правда, перед смертью принц (он умер молодым, от дизентерии) раскаялся, попросил прощения и пожелал, чтобы Маршал отвез его плащ в Святую землю. Тот съездил, умножил этим свою славу, а когда вернулся, король Генрих II стал давать ему одно назначение за другим.
В итоге Маршал сделал большую карьеру и при дворе, и на поле боя, служил по очереди королям Генриху II, Ричарду Львиное Сердце и Иоанну Безземельному, получил от них земли, титул графа Пембрука и богатую наследницу Изабеллу де Клер в жены. Кстати, брак оказался счастливым, Маршал был верен не только королям, но и супруге.
Как писал о нем Энтони Окшотт, «Маршал был одним из самых умелых турнирных бойцов своего времени, веселым сотрапезником, самым мудрым советником и самым верным вассалом – короче, он являл собой воплощение идеального рыцаря».
После смерти короля Иоанна Маршал стал регентом королевства при малолетнем Генрихе III, в возрасте 70 лет успел еще отразить французское вторжение в Англию и укрепить власть своего подопечного. И наконец скончался, оставив после себя репутацию лучшего рыцаря христианского мира.
И это все были совершенно реальные варианты… для человека выдающегося и удачливого. В качестве примеров можно привести таких людей, как Уильям Маршал, Томас Холланд и Бертран дю Геклен. Все они начинали как простые рыцари, без денег и больших связей, а закончили свои дни в роскоши, овеянные славой, обласканные сильными мира сего и любимые своими женами (тоже, кстати, не рядовыми особами).
Томас Холланд – муж Прекрасной Девы Кента
Томас Холланд (1315–1360) прожил не такую долгую жизнь, как Уильям Маршал, и известен куда меньше, но его биография тоже представляет собой интересный пример того, как может сложиться судьба простого рыцаря, если он будет достаточно дерзок и удачлив.
Томас тоже был младшим сыном в английском дворянском семействе средней руки, и его отец неудачно участвовал в восстании против короля, в результате чего потерял жизнь, а семья – влияние при дворе. Все, что удалось сохранить, конечно же досталось старшему сыну, а Томасу оставалось добывать себе славу и богатство мечом.
Он довольно успешно воевал в Шотландии, потом во Франции – как раз началась Столетняя война. А когда ему было около 25 лет, умудрился тайно жениться на двоюродной сестре короля Джоанне, которую называли Прекрасной Девой Кента.
Но пока он воевал в Пруссии, мать выдала Джоанну замуж за будущего графа Солсбери. Выступать против него Холланду, безземельному рыцарю, было совсем без шансов, поэтому Джоанна не решилась возражать, а Холланд продолжил воевать, благо Столетняя война давала много возможностей людям храбрым, умным и удачливым. В одном из сражений Холланд захватил в плен коннетабля Франции, выкуп за которого сделал его богатым человеком, а в целом его храбрость и военные таланты были замечены королем Эдуардом III, который включил его в число первых 26 рыцарей только что созданного Ордена Подвязки.
Теперь, имея деньги, славу и поддержку короля, Холланд мог вступить в борьбу за Джоанну, что он и сделал – подал жалобу Папе Римскому, требуя вернуть ему жену, которую насильно выдали замуж за другого. Граф Солсбери не сдавался, тем более что на его стороне была влиятельная теща. Но Джоанна подтвердила, что вышла замуж за Холланда, и брак был консумирован, поэтому после двухлетней тяжбы ее брак с графом Солсбери был объявлен недействительным, и ее вернули Томасу.
Вскоре умер ее брат, и Холланд по праву жены стал графом Кентским. Он продолжал успешно воевать, в том числе на море, и в конце концов был назначен наместником короля в Нормандии. Но, к сожалению, заболел и умер в возрасте всего около 45 лет.
А прекрасная Джоанна, родившая Томасу пятерых детей, через год снова вышла замуж – за жениха номер один в Англии, а может, и во всей Европе, наследника английского престола, принца Эдуарда, известного как Черный принц. Оказалось, тот уже давно был влюблен в нее и поспешил сделать ей предложение, несмотря на близкое родство и ее подмоченную этими двумя параллельными браками репутацию (тем более что граф Солсбери был еще жив). Джоанна не стала королевой, Эдуард умер молодым, но она стала матерью следующего короля – Ричарда II. А вот похоронить себя завещала рядом с Томасом Холландом.
Бертран дю Геклен – от босяка до коннетабля
Будущий «Орел Бретани» и лучший рыцарь Франции Бертран дю Геклен (1320–1380) совсем не соответствовал образу идеального рыцаря. Конечно, надо понимать, что его чуть ли не крестьянское происхождение, уродливая внешность и полная необразованность – это часть созданной вокруг него легенды. Неграмотный босяк, дослужившийся до коннетабля, спасший Францию и похороненный в королевской усыпальнице, – это очень эффектно звучит.
На самом деле он родился в семье мелкого бретонского землевладельца и получил минимальное образование человека своего класса. Ну и, судя по портретам, красавчиком его действительно было трудно назвать.
Воевал он практически всю жизнь, но в поле зрения сильных мира сего попал не сразу, долго служил в Бретани, где двадцать лет тянулась война за бретонское наследство. В рыцари дю Геклен был посвящен довольно поздно – в 35 лет, но для XIV века в этом не было ничего необычного, к тому времени уже не все стремились стать рыцарями, некоторые и вовсе без этого обходились.
В ходе этой войны он проявил себя как хороший полководец с оригинальной тактикой, умеющий воевать малыми отрядами, и на него обратил внимание наследник французского престола, будущий Карл V Мудрый. С тех пор дю Геклен так ему и служил – разбил наваррцев, много и с переменным успехом воевал против англичан в Столетней войне, постепенно вытесняя их с завоеванных территорий. Впрочем, даже его поражения, которых тоже хватало, удивительным образом оборачивались во благо Франции. Во всяком случае, король его ни в чем никогда не винил, повышал в должности, жаловал земли и титулы и каждый раз выкупал из плена.
Хотя иногда это было непросто – когда дю Геклен попал в плен к Черному принцу, тот не спешил его отпускать, предпочитая, чтобы такой опасный враг подольше не оказывался на свободе. Тогда дю Геклен сам назначил за себя такой огромный выкуп, что принцу ничего не оставалось делать, как согласиться: формальных поводов его удерживать не осталось, а просто так держать благородного врага в плену, не давая ему выкупиться, считалось недостойным. Король, герцогиня Бретани и еще несколько знатных особ, обязанных дю Геклену, заплатили этот огромный выкуп, но, оказавшись на свободе, он вернул им деньги.
В 1370 году он был назначен коннетаблем Франции – фактически верховным главнокомандующим – и за следующие несколько лет освободил от англичан многие захваченные теми территории. Когда он скончался в 1380 году, Карл V пожелал оказать ему великую честь – похоронить его в королевской усыпальнице в Сен-Дени, у себя в ногах20, а поэты добавили его имя к именам «Девяти достойных»21 – самых великих рыцарей в истории человечества.
Не менее известен дю Геклен и своим первым браком – он женился на Тифен Ракнель, считавшейся самой умной и образованной женщиной своего времени. Это породило красивую куртуазную легенду о великой любви, связывавшей прекрасную и умнейшую женщину и некрасивого, необразованного, но талантливого воина. Хотя, скорее всего, в жизни все было гораздо прозаичнее и это был обыкновенный брак по расчету.