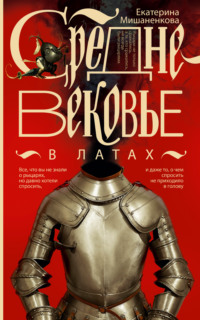Czytaj książkę: «Средневековье в латах», strona 3
Детство будущего рыцаря
Целью начального, семейного и личного образования было научить ребенка элементарным навыкам верховой езды, охоты и владения оружием. Все это происходило одновременно, являясь частью повседневной жизни: обычно мальчик выучивался ездить верхом всего чуть позже, чем ходить, и к семи годам должен был уже уверенно держаться в седле и иметь минимальные навыки владения оружием.
Следующий после начального этап, более длительный и более сложный, уже представлял собой настоящее профессиональное, духовное и культурное посвящение. Он проходил в группе. В зависимости от положения, статуса, финансовых возможностей, местожительства семьи и т. п. мальчика отдавали на обучение либо в дом знатного феодала – чаще всего богатого родственника, друга или сеньора кого-то из родителей, либо в школу при каком-либо монастыре. Либо сначала в монастырь, чтобы научился грамоте, а потом уже на воспитание к сеньору. Бывали и другие варианты, но это основные.
С монастырем все достаточно понятно, поговорим о воспитанниках феодалов, выполнявших при его дворе функции пажей – от «подай-принеси» до сопровождения на войну. На каждой ступени феодальной пирамиды сеньора окружало нечто вроде «рыцарской школы», где сыновья его вассалов, его протеже и, в некоторых случаях, его менее состоятельные родственники обучались военному мастерству и рыцарским добродетелям. Чем влиятельнее был сеньор, тем больше набиралось у него учеников. Прислуживая ему за столом в качестве пажей, сопровождая на охоте, участвуя в увеселениях, мальчики приобретали опыт светского человека.
Стоит уточнить, что дети росли все вместе, вне зависимости от возраста и статуса – разумеется, имеются в виду дети из благородного сословия. При королевском дворе или в замке крупного феодала могло быть одновременно множество ребятишек – сыновья самого хозяина, дети его друзей и вассалов, присланные на воспитание, бедные родственники и даже дети некоторых служащих (не слуг, а людей, занимавших наиболее важные должности при дворе этого сеньора). И дело не в экономии или в какой-то средневековой демократичности, просто люди в то время постоянно находились среди людей – жили большими семьями, спали по несколько человек в комнате, в замках были толпы слуг, в городах дома были понатыканы вплотную друг к другу. Никому и в голову не пришло бы создавать для детей какие-то другие условия.
К тому же средневековый человек всегда был частью некой группы, это не те времена, когда можно было быть одиночкой. Рыцарь был вассалом того или иного сеньора, носил его цвета, шел на войну в его отряде, горожанин был членом какого-либо цеха, крестьянин гордо называл себя по наименованию родной деревни.
Совместное воспитание формировало у мальчиков чувство принадлежности к группе, не зря в средневековой педагогике практиковалась коллективная ответственность, и как поощрения, так и наказания дети могли получать с учетом поведения и прилежания всей их группы целиком.
Ну и не надо забывать о таком немаловажном моменте, что многие социальные связи закладываются именно в детском возрасте. Даже сейчас многие богатые родители стремятся отдать ребенка куда-нибудь в Итон или другую престижную закрытую школу, чтобы тот приобрел там знакомства с принцами и наследниками транснациональных корпораций.
В Средние века люди ничем не отличались от современных, поэтому дружба, завязывавшаяся в детстве, нередко длилась всю жизнь, а сыновья вассалов, росшие вместе с будущим знатным сеньором, впоследствии становились костяком его свиты, его, как говорят сейчас, «командой»9.
Надо отметить, что практически на всех этапах взросления, исключая самый ранний около-младенческий возраст, когда ребенок еще оставался на попечении матери, мальчики росли средивзрослых мужчин, «в мужском мире пота, оружия, конюшен, лошадей и гончих, с его духом при-дворной культуры, а также с его похотью и не-обузданными побуждениями», – как метко пишет Суламифь Шахар10. Детство в то время вообще не рассматривалось как некий особый возраст, ребенок воспринимался как будущий взрослый и воспитывался так, чтобы он мог максимально быстро войти во взрослую жизнь. Это было актуально для всех сословий – сын крестьянина начинал выходить в поле с отцом, когда у него хватало сил идти за сохой, а сына ремесленника по законам многих городов вообще могли признать совершеннолетним, как только он мог доказать, что способен выполнять работу отца.
Совершеннолетие в средневековой Англии
У английских мужчин в Средние века (в отличие от женщин) не было единого для всех классов и социальных групп возраста совершеннолетия.
Раньше всех совершеннолетними признавались крестьяне. В частности, Брактон11 указывает, что сокмены становились таковыми в 15 лет.
А вот позже всех совершеннолетие наступало у представителей класса феодалов/дворян/землевладельцев. Сын лорда, рыцаря или джентри признавался взрослым только в 21 год. В случае, когда возраст юноши вызывал сомнения, проводилось специальное расследование, называвшееся Proof of age inquisition.
Что касается горожан, то у них в принципе не существовало четкой возрастной границы. Сын торговца или ремесленника становился совершеннолетним, когда его признавали способным «считать пенсы, мерить ткань и вести дела своего отца». Лондонцы доказывали свой возраст в Суде Гастингса, протоколы сохранились, и по ним видно, что к вопросу подходили отнюдь не формально. Молодому человеку, чтобы доказать, что он совершеннолетний, приходилось сдавать что-то вроде экзамена и проходить осмотр у мэра и олдерменов, которые признавали его физически взрослым и годным к выполнению той или иной работы. В других городах процедура была примерно такой же.
Разумеется – подчеркну, – речь идет только о спорных ситуациях, по-видимому, таких, когда горожанин умирал, а его наследник был слишком юн, чтобы наследовать его дело автоматически. И тогда ему приходилось доказывать, что он вправе считаться совершеннолетним12.
Процедура подтверждения совершеннолетия в средневековой Англии
Была в средневековой Англии такая процедура, как Proof of age inquisition – официальное расследование (инициируемое представителями королевской власти) для подтверждения совершеннолетия какого-либо субъекта.
Причины понятны – от этого зависело, кто управляет наследством, сам субъект или его опекуны, и насколько он вообще имеет какие-то права и обязанности.
Совершеннолетие, кстати, для мужчин и женщин наступало в разное время. С XIII века у дворянства оно составляло 21 год для мужчины и 16 – для незамужней женщины.
Замужняя становилась совершеннолетней автоматически, если, конечно, уже достигла разрешенного брачного возраста 14 лет.
Пара примеров того, как подтверждался возраст субъекта:
1. Запись сделана в Бранкетре в субботу после дня св. Жиля, в 17-й год правления Эдуарда I (1289 год)
Томасу, сыну Болдуина Филлола, родственнику и наследнику Мэтью Маунтела, в начале прошлого Великого поста было 22 года.
Роберт Дайкет знает это, потому что у него есть сын, родившийся в праздник переноса мощей святого мученика Томаса Бекета, а упомянутый Томас (Филлол) родился в начале предшествующего Великого поста.
Уильям де Брэм знает об этом от сына соседа, который того же возраста. Роберт де Тайвинг тоже.
Уильям де Перле знает это по своему собственному сыну, который старше его на год и семь недель.
Ричард де Бурес родом из города, где он родился, и хорошо знает его возраст.
Томас де Топпингхо знает это по смерти своего отца, который умер два года спустя; а Джон де Топпингхо – по смерти своего отца, который умер за два года до рождения Томаса.
Гилберт Смит (Фабер) знает это по своему сыну, который на два года старше.
Роберт де Шальдефорд знает это, потому что двадцать четыре года назад он был сотником Уихэма и часто бывал в доме отца Томаса.
Другие знают это от верных людей, которые знают правду.
2. Алан, сын и наследник Роджера ла Зуша, также называемого ла Зух и ла Суш.
Предписание Питеру Хейму и Роберту де Радингтону с просьбой выяснить, является ли упомянутый Алан, находящийся под опекой короля, совершеннолетним, как он говорит, или нет, от 20 июня 17-го года правления Эдуарда I.
Расследование завершено в канун дня Святой Маргариты 17-го года правления Эдуарда I.
Упомянутому Алану, который родился в Северном Молтоне и был крещен в тамошней церкви, исполнился 21 год в день Святого Дениса 16-го года правления Эдуарда I.
Настоятель Лайлсхалла говорит, что упомянутый Алан родился в Девоне в праздник Святого Дениса, и в этот праздник ему исполнилось 22 года, он знает это, потому что четыре года назад он присматривал за усадьбой отца Алана в Эшеби и знал от его отца и матери, что ему было тогда 18 лет.
Приор Репиндона согласен и знает это, потому что его предшественник был назначен настоятелем в том же году [рождения Алана] и был приором в течение двенадцати лет, а сам он уже десять лет является приором.
Приор Свэйси согласен, поскольку он был приором в течение двадцати лет и видел его (Алана) до своего назначения, когда тому было 2 года.
Приор Ульвескрофта согласен, поскольку он расспрашивал религиозных людей, и особенно монахинь Граседье, которые живут недалеко от поместья отца Алана в Эшеби.
Брат Уильям Иснах из Герендона согласен с этим, поскольку он подавал… (какие-то иски, затрудняюсь с переводом)… почти двадцать два (?) года назад, а Алан родился накануне праздника Святого Дениса.
Джеффри, приор Брэкела, согласен, потому что он всегда был с предками Алана и… двадцать четыре года назад тоже, а через два года после этого родился Алан.
Ричард ле Флеминг, рыцарь, согласен и знает об этом от жены Уильяма де Рейли, которая была няней Алана.
Джон Панчардон, рыцарь, согласен, поскольку он держит свои земли в течение такого же времени.
Альфред де Сулени, рыцарь, согласен, поскольку его первенец родился в тот же день.
Джон де Куртени, рыцарь, согласен, потому что его мать умерла на Пасху перед рождением Алана.
Уильям (?) де Санкто Альбино, рыцарь, согласен, поскольку его брат подарил ему некоторые земли, которыми он владеет в течение двадцати одного года, а годом ранее родился Алан.
Уильям Л’Эстранж (Незнакомец), рыцарь, согласен, поскольку его (Алана?) отец посвятил его в рыцари шестнадцать лет назад, на Рождество, когда Алан носил перед собой меч, и ему тогда было 6 лет, за исключением периода между Рождеством и днем святого Дениса.
Роберт де Круз, рыцарь, согласен, потому что у него есть дочь того же возраста.
Генри ла Зуш, клерк, согласен, поскольку он его дядя, и также знает об этом от того, кто в то время был священником церкви в Хэмме.
Уолтер, священник из Манчестера (?), согласен с этим, поскольку церковь Карлингфорда в Ирландии была передана ему почти двадцать два года назад, и когда новость дошла до него в Девоне, мать Алана готовилась рожать.
Роберт, священник из Пакинтона, согласен с этим, поскольку он был рукоположен в сан викария во время Очищения двадцать два года назад, а Алан родился на следующий день после праздника Святого Дениса13.
Обучение будущего рыцаря
Будучи пажом, а потом оруженосцем у знатного феодала, мальчик учился хорошим манерам, игре на музыкальных инструментах, пению, танцам, стихосложению. Юный паж должен был усвоить такие ценности, как доблесть, храбрость, стремление к славе, великодушие, бескорыстное поклонение даме. Ему прививалась дисциплина, понимание, что такое субординация и когда и кому надо повиноваться.
Было и, так сказать, трудовое воспитание – мальчики прислуживали своему господину за столом, помогали ему одеваться, носили за ним оружие.
И это было не обучение смирению, а действительно полезные в жизни навыки – королям и крупным феодалам прислуживали не простолюдины, а люди благородного происхождения, занимающие при нем высокие должности.
Вообще подавать своему сеньору тарелку или рубашку было не просто обязанностью, но еще и привилегией, за которую при дворе бились не на жизнь, а на смерть. Да и не только при дворе, бывало, что и знатный вельможа, если к нему в гости пожаловал король, на пиру не ел, как нормальный человек, а торжественно прислуживал своему монарху, почитая это за честь.
Но Средневековье и уж тем более сословие «тех, кто сражается», были пропитаны культом вой-ны, так что, конечно, в первую очередь из мальчиков воспитывали все-таки воинов. Занимаясь лошадьми своего сеньора, поддерживая в порядке его оружие и позже следуя за ним на турнирах и полях сражений, они накапливали знания, необходимые будущему воину.
При этом ожидалось, что мальчики будут относиться к своей военной подготовке, так сказать, «с душой», а не как к рутинной необходимости. Как я уже писала, считалось, что благородство, а соответственно, и благородные качества у человека врожденные. А доблесть, умение воевать, способности к воинскому делу, да и просто бравада, демонстрирующая пренебрежение к опасности, считались качествами, необходимыми для рыцаря. Если юноша не обладал этими добродетелями, его врожденное благородство вызывало серьезные сомнения. У М. Беннетт приводится любопытный пример – в эпической поэме XII века «Коронование Людовика» Карл Великий обнаруживает, что его юный сын отнюдь не воинственен и имеет монашеские наклонности. Это настолько выводит короля из себя, что он осыпает сына оскорблениями и вообще предполагает, что тот рожден не от него.
…Слушает ребеночек, не смеет шагу ступить,
Пожилые рыцари за него плачут навзрыд,
Император же гневается, сердце его кипит.
«Меня околпачили, горе мне – увы!
Видно, с женой моей лежал негодяй,
Когда этот выродок был ими зачат.
Для такого в жизнь мою пальцем не шелохну!
С таким императором связываться грех!
Остричь ему волосы на маковке все,
Запереть урода в этот монастырь,
Пускай доит колокол и будет пономарем,
Десятиной прокормится, с голоду не умрет!»
Стоял близ императора из Арля Ансеис,
Упрямец и строптивец, не в меру самолюбив.
Сладкоречивой хитростью он Карла с толку сбил:
«Справедливый император, полно вам бушевать,
Молодой государь еще молод, что такое пятнадцать лет?
Ребенка сделайте рыцарем, он со страху умрет.
Это дело перемелется – поручите его мне:
За три года все изменится, много воды утечет,
Он оправится, он выровняется, станет рыцарь и муж.
Буду я за ним присматривать, а потом приведу к вам.
Округлю его земли тем временем, увеличу его доход»14.
(Перевод О. Мандельштама)
Обучение охотой
Помимо непосредственной военной подготовки – обучения обращаться с оружием, – будущих рыцарей готовили к войне и основные светские развлечения феодалов: охота и турниры. О турнирах речь будет чуть позже, а что касается охоты, то здесь надо понимать такой нюанс – она была намеренно максимально приближена к «боевым условиям». Не в качестве тренировки, а потому что это отвечало рыцарскому духу.
Средневековая охота – это не привычная нам охота XIX века, когда толпа слуг выгоняет дичь на своего господина и тому остается только прицелиться. В Средние века считалось истинной доблестью загнать и собственноручно убить зверя, и чем тот был сильнее и быстрее, тем больше охотнику было славы.
«Охота была спортом Средневековья, военной тренировкой, которая включала в себя выслеживание, умение отделить понравившегося зверя от стада и, наконец, гон, неизменно заканчивавшийся тем, что распорядитель охоты с мечом или копьем в руках один на один выходил против животного, – пишет Зои Лионидас в «Кухне Средневековья». – Охота была войной со зверем, не уступавшей по своей опасности “человеческой” войне, и не раз случалось, что победу в ней одерживал отнюдь не охотник…
В охотничьей иерархии олень занимал высшую ступеньку на пьедестале. Оленя чаще всего гнали конные охотники в сопровождении собак, искусство загонщика заключалось в том, чтобы не дать животному переплыть ближайшую реку или скрыться на территории соседа-феодала. Апофеозом охоты был выход самого хозяина, который, спешившись, атаковал затравленную дичь с коротким копьем или мечом в руках, и, надо сказать, подобный поединок далеко не всегда заканчивался в пользу охотника. С крупным самцом сладить мог только настоящий мастер своего дела; недаром Гастон Феб15 сохранил для нас средневековое охотничье присловье “кабан – хирург, олень – священник” (то есть кабан ранит, олень убивает наповал)».
Феб писал: «По силе и скорости бега [кабан] мало чем уступает оленю, от жесткой шкуры на излете способна отскочить стрела, затравленный псами кабан, защищая свою жизнь, клыками рвет на части собачью стаю, порой вместе с охотником…» Испытывая невольное уважение к столь мощному противнику, Гастон Феб отмечал в своей книге: «Этот зверь заносчив и горд, а также смертельно опасен, и мне приходилось видеть порой, сколько зла он способен причинить: ибо на моих глазах ему случилось единым ударом пропороть человека от колен до груди, раздробить ему кости и отшвырнуть на землю уже мертвым, причем жертва не успела даже вскрикнуть, также мне случалось не раз быть поверженным на землю вместе с конем, притом что мой конь убит был наповал».
Охота была серьезной частью военной подготовки мальчиков и юношей по нескольким причинам. Прежде всего они учились работать в команде в условиях, приближенных к боевым, выбирать тактику, проводить разведку и т. д. Плюс на охоте совершенствовалось искусство верховой езды, также в условиях, похожих на боевые, – гонка по пересеченной местности, когда надо постоянно контролировать происходящее и не терять из виду своих соратников. Ну и к тому же на охоте можно было испытать свое владение оружием – стрелять из лука по движущейся мишени, ощутить, как копье входит в живое существо.
Д’Артаньян средневековой Бургундии, или Как начал свою карьеру капитан гвардии Оливье де Ла Марш
А. В. Куркин
Оливье де Ла Марш, скорее всего, родился в 1427 или 1428 г. в родовом гнезде Ла Маршей и 25 марта был крещен в церкви Вилегодена. (21) Около 1434–1435 гг. родители, проживавшие тогда в замке Жуа, отдали своего отпрыска в школу при монастыре города Понтайе. Школа располагалась в одном лье от замка, поэтому чета Ла Маршей озаботилась поиском временного жилья для сына в самом городе. Восьмилетний Оливье был принят в доме Пьера де Сен-Мори, друга и союзника семьи Бутон. Для будущего историографа, капитана бургундской гвардии и блестящего придворного началась пора зубрежки и взросления.
Оливье имел живой склад характера, увлекался историями о храбрых рыцарях и прекрасных дамах и прилежно учил латынь… В 1439 г. умер Филипп де Ла Марш, и Жанна Бутон была вынуждена в целях экономии прервать обучение сына.
Семья переехала обратно в замок Ла Марш в Вилегодене, откуда даже скучное однообразие Понтайе представлялось ярким карнавалом. В общем, юного Ла Марша, грезившего рыцарскими подвигами, ожидала пресная судьба заштатного мелкопоместного дворянина. Однако Жанна Бутон, подозревая в сыне скрытые до времени таланты, постаралась во что бы то ни стало открыть перед ним двери в мир, достойный его происхождения. Удачный случай представился в 1440 г., когда брат Жанны Жак де Коберон женился на богатой и знатной девице Антуанетте де Сален-ла-Тур. Последняя приходилась родственницей известному шалонскому вельможе Гийому де Лурье и с подачи мужа рекомендовала сеньору де Лурье молодого Ла Марша. Оливье был принят в доме Лурье в качестве пажа Анны де Шамбр, жены хозяина. В Шалоне Ла Марш прожил больше года, обучаясь куртуазной и воинской науке и ожидая очередного подарка судьбы.
Событием, определившим всю дальнейшую жизнь нашего героя, стало посещение Шалона Великим герцогом Запада Филиппом Добрым (1442 г.). Во время пребывания многочисленного и пышного бургундского двора в городе, жители которого должны были выбирать между счастливой возможностью лицезреть своего сюзерена и тягостным бременем содержать его прожорливую свиту, Гийом де Лурье представил своего воспитанника Антуану де Круа и Антуану де Тулонжону. Последний в память об отце молодого Ла Марша, некогда служившего в его роте, рекомендовал обмирающего от счастья юношу самому герцогу Филиппу. И чудо произошло! Могущественный принц в награду за верное служение рода Ла Маршей бургундскому дому велел зачислить Оливье в штат пажей своей конюшни.
Вся последующая жизнь Ла Марша оказалась накрепко связана с великолепным отелем16 герцогов Бургундских. Сперва Оливье, согласно приказу Филиппа Доброго, несколько лет служил оруженосцем конюшни герцога под началом премьер-оруженосца Гийома де Серси, получая скромное жалование в размере трех су в день. Однако деньги ничего не значили для молодого человека, с головой погрузившегося в блистательный мир самого пышного двора Европы…