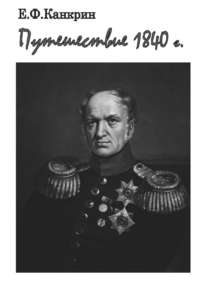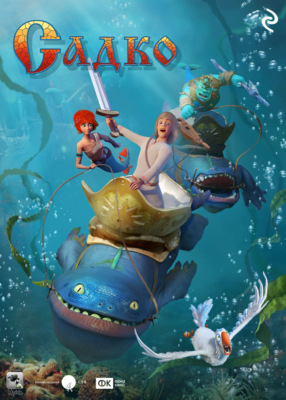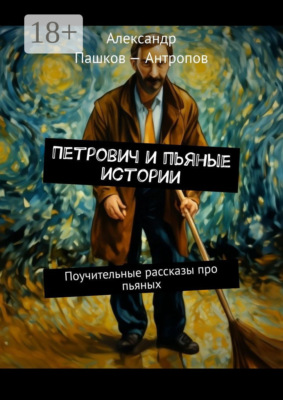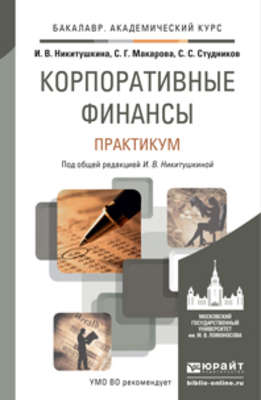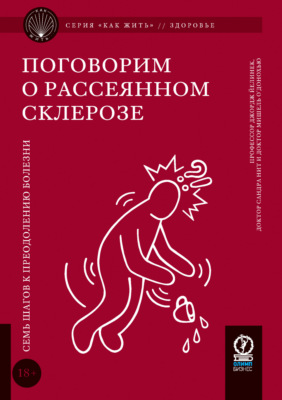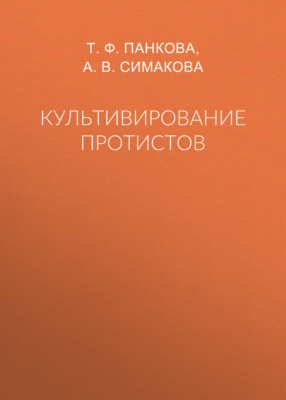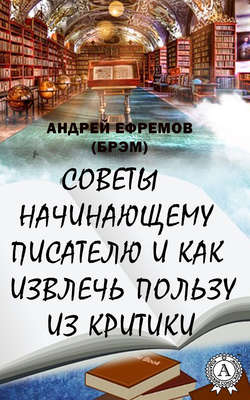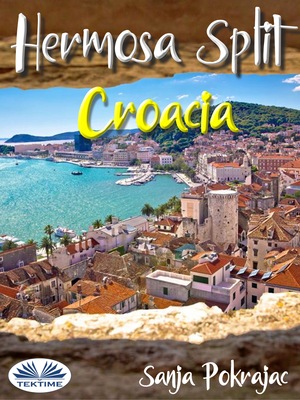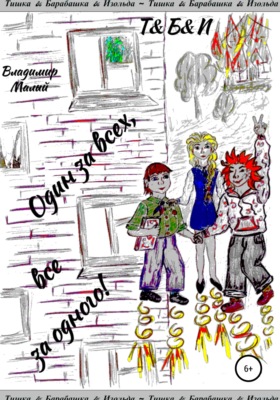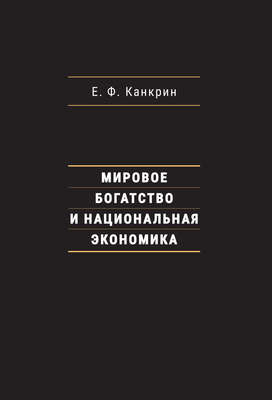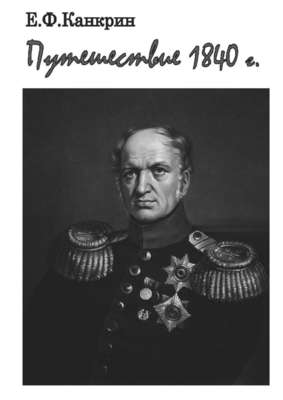Czytaj książkę: «Путешествие 1840 г.», strona 3
Мюнхен
Я вновь посетил королевский замок. Мое суждение о мезонинных окнах было справедливым, и я только укрепился в нем, глядя на окна изнутри. То, что они не скошены к низу, видимо, было невозможно исправить, и поэтому сейчас они выглядят довольно скверно. Строительные леса пока что удачно прикрывают этот изъян. Лишь средняя часть замка имеет надстроенный полноценный второй этаж. Замок, таким образом, по своей высоте никак не может сравниться с берлинским. Но с точки зрения конструкции и блага обитателей три этажа имеют также свои недостатки. Конечно, он выглядит массивно, но маленькие детали и в целом общий вид выдают в нем подобие частного особняка. В тронном зале пол выложен из прекрасного мрамора. В наших же широтах, кроме паркета, на пол, увы, ничего не положишь. Верхние окна в этом зале двойные, чтобы внутри не было слишком жарко. Позолота матовая и бледная, поскольку у листового золота в этих краях какой-то неподобающий цвет, напоминающий скорее золото дукатов. Аркада, о которой я уже говорил, позволяет разгуливать по замку, как по террасе. Но поскольку она венчается прямоугольным сводом, дождь будет заливать с боков внутрь. Почему же свод прямоугольный? Потому что колонны слишком высоки. Почему? Потому что это аркада.
Внешний вид Глиптотеки намного приятнее Пинакотеки, но по размерам она значительно меньше. Вряд ли достойна похвалы узкая лестница с маленькими ступенями, что ведет наверх. На них с трудом умещается стопа, зато легко можно сломать шею, например, во время какого-нибудь особого церемониального восхождения. Я также не знаю, в чем провинились угловые пилястры, что их так беспомощно и одиноко насадили по углам. Неужели каменным стенам нужны подпорки? На вид, по крайней мере, они вовсе не укрепляют, а скорее расшатывают конструкцию. Должен также упомянуть, что в основании колонн, которые встречаются здесь в изобилии, отсутствует плинта (четырехугольная плита). Вряд ли это можно чем-то оправдать. Если так делать и дальше, то очень скоро исчезнет всякая граница между искусством и самодеятельностью. Это просто какое-то уродство. Ладно бы пол был слишком высок – можно было бы понять в виде исключения.
Внутренние помещения Глиптотеки обильно украшены позолотой, барельефами, картинами, мрамором и гранитными плитами. Все смотрится очень красиво. Все увенчаны полукруглым сводом, как мне сказали, в виде сосуда, так что можно было бы спокойно возвести сверху еще один этаж, которого почему-то нет. Укладчик предусмотрел возможность пожара, что похвально, но от этого у строения появился один существенный недостаток. Как известно, прямая часть стены должна составлять две трети общей длины. Дальше начинается свод. Здесь эти соотношения очевидно не соблюдены. Это также можно наблюдать в новом Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге. Старый граф Растрелли строго придерживался нужных пропорций. В возведенной под моим присмотром кирхе Фройляйнштифтер в Санкт-Петербурге высота стены до основания фонаря 35 саженей (245 английских футов). Именно поэтому она кажется тесной, но из-за высоких стен весьма импозантной.
Металлические перекрытия и рулоны из листового железа в качестве балок, с эллипсом в сечении, какие использованы во вновь отстроенном зимнем дворце в Санкт-Петербурге, здесь пока неизвестны. Думая о сопротивляемости огню в случае пожара, строители зашли в своих мыслях так далеко, что вместо того чтобы штукатурить потолок, облицевали его листовой медью и выкрасили. Недавно я как раз заказывал мост в 60 футов шириной на таких металлических балках толщиной в две сковороды.
Не стану пускаться в подробные описания находящегося в Глиптотеке богатого собрания различных статуй, бюстов и других предметов искусства. Скажу лишь, что среди картин есть несколько подлинных шедевров. Одна мужская скульптура, если приглядеться, сбоку принимает позу занятия, благодаря которому существует род человеческий. Не каждому это сразу бросится в глаза – обычно ведь это не становится сюжетом произведения искусства.
Упомяну цех, где отливают и золотят бронзовые статуи баварских регентов, которые для нас оживляют историю здесь, в тронном зале нового замка. Статуи отливаются частями, которые затем покрываются позолотой и насаживаются одна за другой на общий штырь – так, чтобы не было видно швов. Таким способом здесь сейчас собирают статую Баварии высотой в 56 футов.
Мне вдруг пришло в голову, что статуи можно золотить целиком гальваническим методом Якоби3, не тратя при этом слишком много золота, и я об этом написал в Санкт-Петербург.
Как же старые мастера золотили отдельные детали статуй августейших особ, такие как пояс или бант? Купола церкви Марии и Николая в Санкт-Петербурге – ныне церковь Елизаветы – золотили прямо на месте без всякого огня, ничего не плавя. Но как? Этот секрет они не выдали. Должно быть это была жидкость. По крайней мере, слухи такие ходили. А ведь выглядят точно так, как будто покрыты плавильным золотом!
5
23 июня – 5 июля мы покинули Мюнхен – этот примечательный в части памятников искусства город. Когда я мысленно сравниваю Баварию, которую я знал 44 года назад, плюс ту, что я застал в 1821 г., приехав на конгресс в Лайбах, и ту, что я вижу сейчас, я нахожу, что внешние признаки и проявления католичества здесь значительно поубавились. В остальном, не считая некоторых изменений нарядов публики в больших городах, все кажется таким же, как и прежде. При этом я вовсе не ставлю это обстоятельство в упрек здешним немцам и никак не намекаю на упадок нравов. Путешествие из Мюнхена в Зальцбург приобретает все более живой характер по мере приближения карликовых зальцбургских Альп, очертания которых становятся все четче, а сами они все круче. Вплоть до Штейна ничего особого в этом ландшафте отметить нельзя, сам же Штейн и его окружение чрезвычайно живописны, впрочем, как и некоторые чудесные места дальше по пути. Пытаться описать словами природу, равно как и музыку, суть пустая трата времени, поэтому ставлю точку.
Всю дорогу до Штейна глубокий, хрящевой грунт с воистину пугающим однообразием. Только у Штейна появляются первые скалы – я сперва думал, что это известковый туф, но позднее узнал, что это конгломерат из извести, песчаника и изверженных пород, который зальцбургские каменщики называют нагельфлю или нагель-камень. Хотя, может быть, что касается туфа, я был не так уж и неправ. По дороге к Зальцбургу залежи хрящевого грунта продолжаются. Все эти массы, лежащие порознь и кучами, просто потрясают.
Леса становятся все ухоженней, их чередование с полями и лугами просто радует глаз. Хоть в большинстве своем это ели, но среди них попадается немало прекрасных дубов, реже буки и очень редко сосны. Поля хорошо плодоносят, и крестьянские дома, похожие на те, что строят швейцарцы на склонах, кажутся необыкновенно большими. Но ближе к Зальцбургу это меняется. Жаль, что новые дома вновь строят с заостренными крышами. Возможно, людям это кажется модным и подобающим. Поселения состоят из отдельных дворов, времянок, подворий, монастырских подворий и рыночных площадей, последние строились давно и добротно, но, как водится, непропорционально. Народ ходит в национальных костюмах, которые на женщинах смотрятся превосходно, а на мужчинах отвратительно. Здешние женщины выгодным образом отличаются от равнинных, мужчины же в большинстве своем люди большие и хорошо сложенные, но слишком длинные и тощие в ногах, как многие немцы. В целом, немцы здешней породы отличаются широтой и большим весом.
24 июня/6 июля
Во второй половине дня мы выехали из Зальцбурга. По городу видно, что он уже не является резиденцией августейших особ. Раньше Германия, ввиду своей сильной раздробленности выглядела слабой и даже смехотворной рядом с другими державами. Тем не менее, маленьким местным князькам, несмотря на старые грешки, как то содержание борзых, егерей и любовниц, частые выезды в Париж, продажа солдат и произвол в собственных финансах, иной раз удавалось обеспечивать себя лучше, чем людям в иных державах с огромными столицами. Деньги тратились на местах, где и взимались налоги, и хотя в целом расходы были больше, чем в огромных империях, деньги лучше оживляли экономику, так как быстрее оборачивались и лучше стимулировали местное хозяйство. Иначе бы Германия не смогла так легко перенести все лишения, обрушившиеся на нее в связи с войной. Я здесь, кстати сказать, ни в коем случае не оправдываю разрозненность, поскольку главное условие – это все-таки безопасность от внешнего врага. Я также не утверждаю, что нынешняя немецкая конституция, консолидирующая немецкие земли, поможет предотвратить новое нападение. Этому не поспособствует не только немощь самого союза, но и постоянная оглядка западных немцев на своего большого соседа – ведь мы помним, как слабы обычно бывают такие конфедерации. Покойный австрийский фельдмаршал-лейтенант Прохаска в разговоре со мной в 1814 г. точно подметил: «Ничто так не злит Бонапарта, как мысль о том, что он может проиграть коалиции».
Вспоминая времена моей юности и рассказы, которые мне тогда приходилось слышать, и сравнивая их с тем, как устроено нынешнее управление, даже там, где нет регулярной оппозиции, вынужден признать – оно стало более здравым. Разница просто огромна. Да и сами люди, хотя и не скажешь, что сильно поумнели, но в плане морали серьезно выросли. Это уже не какой-нибудь площадной сброд, не считая одной небезызвестной страны, где даже генералы, узнав о заключении мира, поглощали вино кувшинами. Глупость для меня, между прочим, не исчерпывается радикализмом. Когда в стране вводят республиканское правление с элементами монархии, вместо того, чтобы ввести монархию с элементами республики – это по сути та же глупость.
Что касается богатства внутреннего мира, здесь в Германии всегда все делалось правильно. И если во времена так называемого просвещения в каких-то областях мало что двигалось (хотя почти все крестьяне в округе Зальцбурга умеют читать и писать), в целом политика велась подобающе. Правители порою даже чересчур уповали на духовную часть в ущерб материальной, но правили размеренно и без перекосов. Недаром гласит пословица: наш епископ нас не бросит. Случались, конечно же, и злоупотребления, было и кумовство и другое подобное зло, но оно не было вопиющим. Во внешнеполитическом смысле эта чересчур нравственная политика, конечно же, ослабила Германию, как физически, так и духовно, породив в народе слабохарактерность.
Лишний раз убедился, как быстро немец приспосабливается к изменениям в политике государства. Воспоминания о прежнем порядке практически стерты из памяти, и в любом селе надо найти самого старого жителя, чтобы узнать, кому село принадлежало в прежние времена. Конечно же, система управления в разных землях очень похожа, все тот же язык и все тот же местечковый патриотизм все у того же мелкого чиновничества. Большой великонемецкий патриотизм существует только на бумаге.
Перипетии последних лет повлияли на немецкий характер. Немцы привыкли быть сплоченнее других, и теперь стремятся к этому все больше и больше. Каждый народ – сам кузнец своего счастья. Дух затворничества породил немецкую раздробленность, равно как сопротивление попыткам порабощения любого рода определили характер народа Польши. Сейчас уже трудно себе представить насколько был однажды силен дух неприятия и ненависти одних народов к другим, соседним народам, севера к югу, сторонников автократии и поборников идеи суверенных княжеств. Первых тогда считали чуть ли не преступниками. Сейчас все это уже забыто. Патриотизм в отношении своей страны, которая теперь еще и увеличилась в размерах, может появиться только со временем. Сейчас он существует большей частью лишь среди высокого сословия, чиновничества, на сословных собраниях и на бумаге и в какой-то степени среди населения в исконных немецких землях.
6
Бад-Хофгастайн. 5/17 июля
Так как недуг мой за время путешествия отступил, и силы вновь вернулись, я, вспомнив свою страсть к прогулкам, успел уже обойти здесь всю округу.
Чтобы упорядочить свои неосознанно полученные с течением времени разрозненные знания и восполнить пробелы в геологии, географии и минералогии, используя для этого возникшее свободное время, я накупил себе книг по всем этим предметам. Однако вскоре я понял, что серьезно переоценил свои силы, т. к. даже поверхностное изучение этих предметов, в их нынешнем состоянии, особенно ставшей столь подробной минералогии, требует немалых трудов. Замечу сразу, что ввиду некоторой половинчатости оценок и неполноты знаний множество вопросов остаются открытыми. Пусть наша земная кора сформировалась в результате нептунических, вулканических, плутонических и метаморфических изменений, протекавших то быстро, то медленно, то порознь, то вместе, в течение неизвестного количества времени! Я все же хочу знать, как она выглядела раньше, имея в своем составе основные компоненты. Гранит всегда состоит из кварца, полевого шпата и слюды. Но как он образуется? Горячим способом или в воде? Как вступают во взаимодействие эти компоненты? Так или иначе, мысленно пытаешься представить самое начало, но, судя по всему, мы ничего об этом не знаем, можем только догадываться. Может быть, был когда-то период, когда по частям образовывались и сами эти элементы. А что если море раньше было горячим? Может быть, это и стало причиной? Или некоторые скалы тогда уже существовали? Я теряюсь в догадках.
И еще одно. А не стала ли минералогия слишком подробной в описаниях? Ведь может случиться, что-то, что она считает видами, есть лишь переходные состояния, что часто встречается в природе и особенно среди камней. Получается, что наука лишь напрасно все усложняет? Недавно открыли даже канкринит. Я об этом ничего не знал и своего разрешения на название не давал. По мне так лучше бы его не находили. Тогда и запоминать не надо было бы. Может быть, вместо него что-то действительно новое узнал бы.
Добрую половину дня я нынче трачу на чтение крайне интересной книги доктора Мухера «Долина и термальное озеро Гастайн» 1834 г. – труд куда более содержательный, чем можно было подумать, судя по названию, особенно с точки зрения истории и горного дела. Любой, кто интересуется прошлым, прочтет эту книгу с большим удовольствием. Местами, пожалуй, даже чересчур поэтично.
В книге, в частности, говорится, что с 1480 по 1569 годы горное дело развивалось крайне медленно. Уменьшение запасов руды, несчастные случаи, и, наконец, реформация – привели горное дело в упадок и практически остановили развитие этой отрасли. Вновь попытать счастья в добыче руд было смелой задачей. С упадком отрасли и концом торговли с Венецией упало и благосостояние тауэрнтальцев, получавших немалые доходы, и прочих жителей нагорья – в особенности после изгнания тридцати тысяч зальцбургских протестантов. Династии горнопромышленников, которые вышли из крестьянского сословия и выросли в местную аристократию, повымирали, либо перебрались в другие места. Немыми свидетелям былой роскоши в Бад-Хофгастайне стоят шикарные особняки в старом стиле.
7/19 июля
Продолжаю читать книгу Мухера.
В долине Таурица также существует горное дело. В этой земле из руды получают серебро и золото. Выход не такой большой, но рынок в Гейсберге был когда-то столь же известен, что и в Хофгастайне.
Примечательной является – о чем я уже упоминал ранее – большая высота, на которой находятся рудники. Самое низкое место в долине находится на высоте 7300 парижских футов над уровнем моря, а высоко над штольнями раскинулся ледник золотоносной горы Сейгурн. Лес на возвышенности вырублен. Там находится мельница-камнедробилка.
Здесь добывают золоторудной мелочи где-то на 4000 рублей в год (1834), что соответствует трем-четырем тысячерублевым лотам мытого золота. В долине Фушер также ведется добыча золота на Харцберге, где камнедробилка на 1000 центнеров слюды выдает семь-восемь лотов мытого золота, стало быть, почти что вдвое больше. Если считать, что центнер это примерно три пуда, то выходит, что из ста пудов руды они получают три четверти одного золотника мытого золота. Это для горной добычи, учитывая издержки, довольно незначительное количество. У нас, когда добывают три четвертых золотника из 100 пудов песка – хотя мыть песок гораздо легче – считают это низким содержанием. Хотя бывает, что моют песок и с меньшей долей. Увы, в этих крутых горах, кажется, нет отложений золотоносного песка, каковые встречаются в наших более плоских горах. Ведь нужны лощины, чтобы в них собирался песок, вымываемый дождями. Что касается долины, то там давно все вымыто многочисленными разливами горных ручьев. Помимо этого многое зависит от стадии горообразования. Здешние горы еще в стадии зарождения. На Урале же и на Алтае старые золотоносные горы по сравнению с этими кажутся совсем разрушившимися.
С чтением газет дело здесь обстоит скверно. Несмотря на то, что они есть в наличии, приходят они не в положенное время, так, что даже у меня не получается почитать свежую газету. В этом смысле я здесь сильно обделен. Кажется, что и само время нынче небогато событиями: конец войны за испанское наследство, бессмысленность которой и так была понятна еще с похода Дона Карлоса на Мадрид, дебаты в палатах о чем угодно, кроме как о состоянии нации, споры о нелепых предубеждениях, усилившихся с введением конституции, и о том, как положить этому конец, алжирская война, на примере которой становится ясно, что люди разучились воевать и уже не понимают, что надо делать в бою, а что не надо. Да и могло ли быть иначе, когда министры руководят фронтом, а журналисты со страниц газет поучают генералов?
Чтобы не изнурять себя ходьбой, я перед обедом съездил в Хоф. Там мы осмотрели очень старую церковь. Когда речь заходит о возрасте того или иного храма, не всегда стоит верить тому, что говорят – храмы часто перестраивают. Как внутри, так и снаружи мы видели множество надгробий знатных владельцев здешних рудников: Бейтмозеры, Штроссеры, Векслеры, Штахнеры и другие важные персоны. Из крестьян они выросли в знать, некоторые даже получили дворянские титулы. Очевидно, не вся аристократия вышла из рыцарства. Интересно, живы ли где-нибудь еще их потомки. Здесь в долине никого уже не осталось, хотя, говорят, что Мозеры еще живут где-то в окрестностях.
Нынче этих горных тори сменяет крестьянская знать, которая продолжает скупать подворья, мельницы, пастушьи хижины, трактиры, в то время как 4/5 всего населения живет в нищете. Многие нанимаются в слуги к богатым господам, являясь по сути теми же крепостными, только не по закону, а по нужде. Слуга получает 18, прислужница – 12 гульденов в год. Крепостное право – позор рода человеческого, но, как бы ужасно ни звучали эти слова, люди порой оказываются и в еще более худшем положении. К примеру, те же ирландцы, английские фабричные рабочие и им подобные… Как же все-таки аристократы давят бедняков! И это не считая дворянства. Аристократы-капиталисты, аристократы-чиновники, аристократы-ученые, аристократы-ремесленники и горожане, да и вообще аристократы-собственники как таковые. Ведь эти господа угнетают бедного свободного рабочего куда больше, чем иной землевладелец своего крепостного. Более-менее состоятельных землевладельцев в этих краях принято называть крестьянами. Тех, что владеют лишь небольшим домиком и скромными угодьями, – полукрестьянами или батраками, вероятно, потому что из скота держат только коз и вечно нанимаются поденщиками. Недалеко от них ушли и горняки, что работают в шахтах. Каждый из них, если будет хорошо работать, получит в день 27 крейцеров.
То, что у земли есть хозяин, всегда хорошо для земледелия, но здесь мы вновь наблюдаем огромные площади земли в собственности богачей и постоянный прирост деревенской бедноты, поскольку любой нерадивый либо невезучий хозяин рано или поздно приведет свою семью к разорению и поденному труду. Участки земли слишком дорого стоят, чтобы какая-нибудь семья вновь смогла выкупить свою землю, разве что если ей очень повезет.
В Англии чрезмерная концентрация земельной собственности имеет те же последствия. Повышение культуры возделывания земли, разведение овец и другого скота, появление машин – заставило множество крестьян покинуть владения своих господ, где они были арендаторами, поденщиками и землепашцами, и податься на фабрики, чтобы терпеть нужду, когда экспорт английского фабриката вдруг останавливается. Сейчас объемы этого экспорта как раз снижаются и, по моему мнению, будут и дальше снижаться. Такой пролетариат наиболее опасен для государства, так как будучи лишенным каких бы то ни было моральных ценностей, находясь к тому же в постоянном брожении, способен на любые выходки. Это делает политическую систему в Англии опасной, равно, как и безумная система откупщиков, которую каждый такой откупщик толкует на свой лад. Отсюда в этой стране на дрожжах от парижского плебса растет зараза нашего времени, последствия распространения которой не заставят себя долго ждать. И эти последствия – вызревание различных проектов аграрного передела, которые стряпаются прямо в современных газетных типографиях. Я не говорю, что данные классы не имеют права предъявлять правительству претензии, если оно не делает все возможное для улучшения их жизни, просто при столь напряженном состоянии общества, взаимной ненависти парламентских партий и политической безграмотности мало что можно вообще сделать. Революция же, без всякого сомнения, отнимет у людей последние средства на пропитание – тут уж к гадалке не ходи.
Поскольку у наших казенных крестьян земля является неотъемлемой собственностью короны, находящейся в пользовании общины, малые крестьянские хозяйства развиваются не так хорошо, как хотелось бы. Постоянный прирост населения заставляет вновь и вновь делить землю. То, что в результате такого деления безземельных и малоимущих мало, это хорошо. Но правда и то, что крестьянская аристократия иных из них разоряет, ссуживая деньги или предлагая выкупить участок.
Это пресловутое «правильное разделение» земельной собственности является не чем иным, как самым сложным, если вообще разрешимым, вопросом современной национальной экономики. И как бы красиво ни звучали различные теории, на практике ничего другого не остается кроме как улучшать уже существующее положение. У нас, по крайней мере, в этом смысле еще есть чем заняться, впрочем, как и у других. Но если форсировать, принять незрелые проекты, кинуться, сломя голову, и начать рубить с плеча, то можно только навредить.
Мы, пользуясь случаем, осматриваем в Хофе дома зажиточных горожан, гордо носящих звание горнопромышленников. На доме, где пекарня – №56, бывшем владении Бейтмозеров, я приметил две вьющиеся колонны, украшенные хризолитом, которые на мой взгляд старше чем сам дом, построенный в 16 столетии. Сейчас они подпирают старый деревянный каркас.