Охотник за ароматами. Путешествие в поисках природных ингредиентов для культовых парфюмов от Guerlain до Issey Miyake
Tekst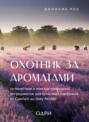


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 250 str. 1 ilustracja
- Kategoria: kosmetyka i kosmetologia, moda i styl
Голубая жатва. Горы Прованса, лаванда
– Лаванда знакома мне с детства, но это… Думаю, что никогда не вдыхал ничего столь же прекрасного.
В своем кабинете в Нейи – стекло, алюминий, ковер с густым ворсом – парфюмер Фабрис не торопится с оценкой. Он держит в руке блоттер, полоску бумаги, кончик которой опускал во флакон с эссенцией. Фабрис медленно проводит бумажной полоской под носом в одну сторону, потом в другую, откладывает ее и берет снова. Молча. Соединяющее звено между флаконом и носом, блоттер – это базовый инструмент в парфюмерии, первый подход перед тем, как почувствовать аромат на коже. Я смотрел, как парфюмер нюхал новый образец, который я только что ему принес. Уроженец Грасса, Фабрис – великий парфюмер, специалист по натуральному сырью, живущий между Парижем и городом, которому принадлежало его сердце. Застенчивость сделала его неразговорчивым, но очень светлые голубые глаза Фабриса загорались каждый раз, когда новый аромат его удивлял. В Нейи он входит в творческую команду нашей компании и занимается изысканной парфюмерией. В Грассе он оценивает потенциал новых душистых материалов, созданных в нашей лаборатории. Будь то новые растения или новые методы экстракции, именно Фабрис ольфакторный судья всех этих идей. Его стол был заставлен маленькими стеклянными фиолками (бутылочками). Это десятки ежедневных проб для одного из его текущих проектов, отмеренные и смешанные роботами.
В одиночестве или в команде, парфюмеры работают одновременно над несколькими парфюмерными композициями. Они получают «бриф», задание парфюмеру на создание аромата от компании, собирающейся выпустить духи. Парфюмерные формулы – это сложные конструкции, тонкое соединение десятков составляющих, натуральных или синтетических.
Каждый ингредиент химически и ольфакторно описан и ароматически отпечатан в памяти парфюмера.
Случающиеся вариации качества сырья не должны повлиять на гармонию придуманной формулы, поэтому моя задача снабженца порой бывает очень непростой. Идет ли дождь или дует ветер, качество и стабильность – базовые требования для того, кто покупает натуральное сырье. По требованию клиента парфюмерам приходится многократно модифицировать первоначальную идею, прежде чем проект будет готов. Досада и разочарование – их ежедневный удел, а вовсе не звездный статус «носа», который им присваивают журналы и публика.
Фабрис известен своими творениями для таких марок, как Dyptyque, Réminiscence или L`Artisan Parfumeur, выпускающих парфюмерию высокого качества. Он проявил свой талант в искусных композициях из натурального сырья, которые обеспечили ему большой успех у Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier и Azzaro. Он мне очень помог в том, чтобы я научился чувствовать запах. Без настоящего обучения и многих лет практики в этом искусстве напрасно надеяться на успех, но основные знания я приобрел. Уловить зеленые или сладкие грани в аромате цветка в полях и цехах, распознать ноты только что приготовленных эссенций, познакомиться с лексиконом в большей степени выразительным, чем простой описательный. Говорить о нотах металла, гумуса, дождя, скошенного сена, стойла, соли на коже, новой кожи… Фабрис дал мне драгоценный багаж, который всегда со мной.
В тот день мы говорили о лаванде, знакомом цветке, который всегда пробуждает желание заново узнавать его.
Под июльским солнцем Прованса лаванда интенсивно источает, пожалуй, самый известный аромат, самый доступный, который напоминает о лете, шкафах с постельным бельем, свежести одеколона. Любимый аромат французов, лаванда – это символ Прованса, запах юга и Средиземноморья. Под ярким синим небом цвет поля меняется, оно не голубое по-настоящему, но и не совсем сиреневое. Оттенок зависит от солнца, от времени дня, от расположения и размера плантации. Сейчас лаванду выращивают почти по всему миру, но ее истинные, глубокие корни здесь, на этой земле. На протяжении всего времени лаванда остается эталонным французским ароматом. Ее единодушно ценят, и все узнают ее запах.
Когда Фабрис говорит о лаванде, блеск его глаз и провансальские интонации напоминают мне о небе Верхнего Прованса:
– Хорошая лаванда ароматная, свежая, резкая и звонкая. Она пахнет солнцем, чистотой белого белья.
Мы оба знаем, что сейчас Болгария стала крупным поставщиком лавандовой эссенции для парфюмерии, что привело к упадку французского производства. Эту реальность уроженцу Прованса принять тяжело:
– Я регулярно нюхаю болгарскую продукцию, но в большинстве случаев она плоская, с примесью плесени, это почти рокфор. Лаванда, которую ты дал мне понюхать сегодня, достоверная и благородная. Откуда твой образец?
И я ему рассказал, как производители лаванды в Провансе хотят во что бы то ни стало спасти французскую лаванду, которой угрожают более дешевые иностранные конкурентки. Я познакомился с Жеромом, который в течение трех лет выращивает новый гибрид. Полный надежды, Жером спросил меня, могу ли я представить его образцы нашим парфюмерам. Фабрис пришел в восторг:
– Гениально, я обязательно хочу это увидеть.
Все мгновенно решилось: мы отправимся на юг по направлению к Маноску, оттуда поднимемся посмотреть поля Жерома. На стеллажах рядом с фотографиями его успехов Фабрис поставил несколько старых снимков сбора жасмина, туберозы и роз в Грассе. А еще фото старого перегонного аппарата на тележке. Фабрис, сын парфюмера, чувствует себя здесь как дома. В Париже Фабрис как будто в изгнании.
Для меня, внука жительницы Прованса, поездка в Маноск – это прежде всего новое погружение в детские воспоминания, когда я проводил каникулы на юге в доме, где все шкафы пахли лавандой.
Моя бабушка в начале века прожила несколько лет в этом аромате, пока училась в Дине. Когда она рассказывала об этом, к ней возвращался местный акцент. Она говорила о лаванде как о ветках оливы или засахаренных фруктах на Пасху. Перед Первой мировой войной после уроков нравственности школьные учителя просили учеников, чтобы те уговаривали родителей посадить лаванду в их хозяйствах, чтобы семейное дело помогло процветанию всего региона. Разумеется, Маноск – это еще и вселенная великого писателя Жана Жионо. В «Провансе» он пишет, что лаванда высшего сорта растет высоко, в отрогах Монтань-де-Люра. Она – душа Верхнего Прованса. Писатель называет историческим сердцем лаванды бедные земли овец, камней и ветра между Альпами и Провансом. В первые десятилетия XX века весь регион жил лавандой. Это был мир селекции, перегонных аппаратов, рынков в Дине и Маноске, на которых торговали эссенцией. Жионо пишет: «В пору сбора урожая вечера благоухают, краски заката – это земля, устланная срезанными цветами. Примитивные перегонные аппараты, установленные возле водоемов, дышат красным пламенем в ночи».
История лаванды в Провансе еще более древняя. Дикая лаванда всегда росла в этих местах на склонах гор, и семьи пастухов срезали кусты серпом banassiures. Самые ранние из сохранившихся перегонных аппаратов датируются XVII веком. Начиная с 1850 года спрос на лавандовую эссенцию настолько вырос, что кустарные производства по дистилляции начали расширяться и технически оснащаться. На смену маленьким перегонным аппаратам приходит передвижная модель, которая ездит из деревни в деревню, чтобы обработать свежий урожай, собранный крестьянами. Почти на сто лет такие перегонные аппараты станут частью жизни региона. Тележки с медными баками, запряженные мулами, постепенно уступили место грузовикам, но функции не изменились. К 1890 году лаванду начали высаживать на полях. Это было необходимо, чтобы удовлетворять растущий спрос парфюмерной индустрии. Сбор дикой лаванды практически исчез как промысел после кровавой бойни Первой мировой войны из-за нехватки рабочих рук. Жюльен, брат моей бабушки, был убит на Сомме в 1915 году в возрасте 20 лет. Бабушка никогда об этом не говорила, она предпочитала вспоминать о лаванде.
Культурная лаванда постепенно вытеснила из производства дикую, и ее аромат со временем стали воспринимать иначе. Это была своего рода расплата за невероятную популярность и повсеместность использования лаванды, в течение века непосредственно влиявшей на развитие парфюмерного производства в Грассе. Процветание индустрии было неразрывно связано с сенсационным успехом предпринимателей города и их домов парфюмерии. 1920–1930-е годы – это одновременно пик популярности лаванды, золотая эпоха Грасса и натурального сырья. Великие имена – Шиммель, Лотье, Шири – будут ассоциироваться с историей города до шестидесятых годов. Чтобы обеспечить их потребности в эссенции, открывались крупные перегонные производства. Лаванда способствовала тому, что Грасс превратился в мировую столицу парфюма.
Когда мы с Фабрисом приехали в Маноск, то сначала отправились на плато Валансоль. Перед Второй мировой войной это была каменистая земля с дубовыми и хвойными лесами, там паслись овцы и росли миндальные деревья. В феврале, когда цвел миндаль, вид на плато был очаровательным, но заморозки убивали будущий урожай почти каждый третий год.
Миндалем занимались бедняки. Бабушка вспоминала, что женщинам, которые кололи орехи, платили скорлупой. Они собирали ее, чтобы топить печь.
Миндаль предназначался сначала для производителей нуги, и мы всегда вспоминали этих женщин, когда покупали ее в Монтелимаре с моими бабушкой и дедушкой. Перед самой войной несколько местных первопроходцев решили засеять плато. Рассказывают, что в 1938 году в Валансоль прибыли тракторы, одни из первых в сельском хозяйстве Франции, а уже начиная с 1950 года плато сочли подходящим для выращивания лаванды и пшеницы в промышленных объемах. За несколько лет миндальные деревья уничтожили, тысячи гектаров очистили от камней, и Валансоль зацвел бескрайними полями лаванды.
Полвека спустя все изменилось. Хотя большинство посетителей этих мест об этом не догадывались. Поля Валансоля, знаменитые благодаря почтовым открыткам, засажены уже не лавандой, а лавандином. Настоящий сюрприз. Родственник лаванды, гибрид двух разновидностей, более продуктивный, более стойкий, лавандин захватил плато, и с 1970-х годов он – хозяин этих мест. Лавандин намного дешевле лаванды, и его эссенция навязала себя индустрии как природный источник нот, напоминающих лаванду, несмотря на его запах с явно выраженным оттенком камфары. Лавандин используется в функциональной парфюмерии, в моющих средствах и средствах для стирки, в шампунях. Никто не уточняет, лаванда это или лавандин, чтобы не разочаровывать туристов. Растения похожи, чтобы их различать, нужна привычка. У лаванды более короткие стебли, в ее цвете больше голубизны, за ней престиж ее истории и тонкость аромата. Лавандин необходим для промышленной парфюмерии, и он занимает бо́льшую часть плантаций и декоративных посадок в этом регионе.
Чтобы найти настоящую лаванду, нужно подняться выше в горы, в те места, откуда она родом.
Каждый год в июле между долиной Дюранса и ущельями Вердона тысячи гектаров цветущих полей предлагают уникальную феерию, огромные пространства насыщенных сиреневых и фиолетовых волн, встречающихся на горизонте с лазурью неба. Когда в середине июля наступает пора сбора лавандина, сборщики работают днем и ночью. Невероятное зрелище, когда тракторы входят в океан голубовато-сиреневых стеблей, оставляя за собой светло-зеленую полоску обрезанных кустов. Собранные цветы сразу отправляются в контейнеры, которые послужат перегонными аппаратами, подключенными к пару на ближайшем перегонном заводе.
Медленно двигаясь среди этого буйства красок, мы с Фабрисом поднимались по плато вверх по узким дорогам, серпантином вьющимся среди дубов, пока не добрались до фермы Жерома между горой Ванту и Баноном. Там, намного выше полей лавандина, продолжает существовать лаванда Прованса. Сын и внук земледельцев, Жером был рад принять нас тем июльским утром в разгар сбора урожая. Яркие голубовато-сиреневые ленты среди белой гальки, кусты, вокруг которых роятся пчелы, высятся над всей равниной и открывают потрясающий вид на его величество Ванту. Легкий ветер приносит снизу шум работающей жатки. Мы с Фабрисом обменялись взглядами, понимая, что испытываем одно и то же чувство абсолютной безмятежности.
– Я знаю, что это растение представляло для местных жителей. Об этом слишком часто забывают, – сказал Жером, и Фабрис, дитя Грасса, кивнул. Молодой человек решил продолжать выращивание лаванды, уверенный в том, что рынок признает превосходство его эссенции над болгарской продукцией. Приезд Фабриса подтвердил, что он был прав. Продукция Жерома прошла процесс необходимой экологической сертификации и представляет собой сырье наивысшего качества. Он только что вложил средства в новый перегонный цех. Жером делал ставку на диверсификацию, выращивая шалфей, тимьян, бессмертник и благородные сорта лаванды. Уже три года он был одним из пионеров, которые выращивают новый сорт лаванды. Именно ее эссенцию я дал понюхать Фабрису в Париже. Это сокровище, которое производитель эфирных масел с гордостью нам показал. Его продукция зарезервирована для нас, его вложения и упорство оправдались.
Мы прошли вдоль хребта над фермой. Поле было уединенным, как будто спрятанным. Я пожирал глазами вид, открывавшийся на Альпы. Мы осмотрели часть участка, двадцать гряд на склоне, голубая геометрия, вырезанная на зеленом фоне равнин вдалеке. Жером размял в руках цветки лаванды, понюхал и сообщил, что она уже почти созрела. Фабрис кивнул. Чистый и глубокий запах без камфарной ноты.
– Твоя лаванда пахнет горным ветром, этим она и отличается.
Парфюмер прошелся между рядами, взгляд его голубых глаз блуждал по горам. Он погрузился в аромат лаванды, нос настроил его на творческий лад:
– Лаванда теперь не в большой моде в парфюмерии, но эта нота дает новый, более утонченный взгляд на оригинальную эссенцию.
У Фабриса была идея использовать лаванду в проекте, в котором он уже вышел на «финишную прямую». Жером не скрывал удовольствия, которое ему доставил приезд парфюмера. Он уже представлял, как результат его трудов попадет во флакон духов известной марки. Оставался вопрос объемов. Сможет ли Жером поставить достаточное количество, чтобы запустить новинку. Два этих страстных провансальца, которых сближает их культура, говорили на неподвластном времени языке. Это был совершенно реальный сговор между парфюмером и жнецом. В Париже рекламные плакаты превозносили последнее творение Фабриса для Azzaro, но тут он ходил между кустами сосредоточенный, преисполненный решимости найти среди лавандовых полей ключ к новой идее. Вдали от мира, где он оставался прославленным парфюмером, он продолжал вместе с Жеромом творить историю ароматов в Верхнем Провансе.
А я был между производителем и парфюмером связующим звеном. Таков, вероятно, истинный смысл того, что я пытался делать. Можно ли назвать это профессией?
Был жаркий летний день, пчелы громко жужжали. Фабрис все меньше сдерживал эмоции, любуясь окружающей нас уникальной красотой. Человек, занимающийся сельским хозяйством в этих горах, – это еще и создатель пейзажа. Так объяснил нам Жером. С его лавандой, дубами и ульями он мечтал вернуть этим краям тот же вид, что был здесь сто лет назад, и по возможности сохранить наследие Прованса. Среди цветов и камней ветер нес возвышенную и безмолвную симфонию запахов. Но на землях деда Жером не давал себе времени на ностальгию. Несколько часов мы обсуждали детали поставки и виды на урожай. Я собирался купить у Жерома всю его продукцию. Несколькими месяцами позже его лаванда займет почетное место в творении Фабриса для L`Artisan Parfumeur. И он отметит, что лаванда Жерома помогла найти особенное сияние свежести в созданном им аромате Bucolique de Provence, передающем подлинное настроение Прованса.
Лаванда как партизан в горах, лавандин в изобилии на плато – у этих детей Верхнего Прованса теперь разные судьбы. В конце того дня мы снова ехали через плато. После деревни Валансоль множество машин туристов стояли на обочине, затерявшись в океане лавандина. Пар двадцать в свадебных нарядах замирали, словно в причудливой пантомиме. Китайцы, в белых одеяниях и с зонтиками от солнца, смеясь, шли вперед между рядами сиреневых цветов со смартфонами в руках, готовые делать селфи. За несколько лет до этого эпизоды из китайского телесериала «Сны за хрустальным занавесом», где герои женятся в Провансе, посмотрели двести миллионов человек. Теперь китайские туристы приезжают в Прованс, чтобы в реальности увидеть поля лавандина. Фото, сбор букетов, улыбки на голубовато-сиреневом фоне. Символ современной деревни Верхнего Прованса, лавандин принимает туристические волны в невероятном сочетании белого и сиреневого.
Пока я шел вдоль дубовой рощи, проект Жерома напомнил мне историю книги «Человек, который сажал деревья». События в этом романе Жана Жионо начинаются в 1913 году. Автор скупо описывает местность, окружающую его героя: однообразные заболоченные равнины и горы, где не растет ничего, кроме дикой лаванды. Человек собирается в одиночку посадить среди этих болот леса. Его карманы полны желудей, в руках вместо палки металлический прут. Жионо рассказывает историю своего успеха и о том, как лес преобразил эти земли. Сейчас у подножия гор голубизна лаванды сменилась сиреневым лавандином, миндальные деревья исчезли, но туристов становится все больше. Какое будущее ждет эти края?
В горах, там, где слишком высоко для туристических автобусов, до сих пор можно встретить картины, описанные Жионо. Среди дубов и лавандовых полей трудится Жером – продолжатель этой истории преображения Прованса. Он выращивает лаванду, которая перестала быть дикой, но ее аромат остается уникальным. Эта лаванда растет среди деревьев, выросших там, где мечтал их увидеть Жан Жионо.
Роза со всех концов света. Персия, Индия, Турция и Марокко
Я двадцать лет работал с парфюмерной розой, такой непохожей на тысячи декоративных роз. Я сажал цветы, занимался перегонкой, искал и покупал эссенции. Я видел розу во многих странах вдоль Шелкового пути. В общем представлении роза – это и есть парфюм, без розы нет парфюмерии. Во времена Античности ее почитали во всех возможных формах: цветы свежие и засушенные, ароматные масла, ароматизированные фонтаны и вина. С течением времени место розы в парфюмерии прочно заняла дамасская (казанлыкская) роза, Rosa damascena, родом из Шираза в Иране. Совершив путешествие из Персии по проторенным торговым путям, эта роза прибыла в Дамаск, крупный торговый центр Средиземноморья в Средние века. Оттуда крестоносцы привезли ее в Европу и назвали дамасской розой. Научившись изготавливать розовую воду примерно в VIII веке, персы ароматизировали мир от Китая до Европы на протяжении восьми-девяти веков, пока открытие розовой эссенции в Индии в XVII веке не позволило розе стать сырьем для духов.
В моей памяти сохранились все эти розы с разных концов света. В каждой командировке, на каждой плантации, куда их привезли караваны истории из далекого Шираза, мне нравилось вдыхать их аромат.
Везде, где я их встречал, розы были настоящим искушением. Они растут словно принцессы в уединенных садах, на краю горных селений или вдоль пустынь. Там, где растут розы, всегда течет вода, они обычно окружены липами, орешником и фруктовыми деревьями. Они колышутся на ветру рядом с пшеницей или люцерной, над ними летают ласточки и поют соловьи. Девушки, которые их собирают, не могут устоять и украшают цветами волосы. Садовники ухаживают за ними, чтобы вдыхать утром их аромат и каждый день чувствовать запах эссенции, текущей из перегонных аппаратов. Каждую весну розовые кусты взрываются буйством хрупких розовых цветов, потом они отдыхают и засыпают.
Персия питает к розам глубокую любовь, они – часть ее истории и культуры больше тысячи лет. Розы в сердцах ее жителей. Сначала я отправился отдать должное розе в Шираз, ее колыбель, город роз и соловьев, соединившихся навеки в персидской поэзии. Позднее, на базаре в Исфахане, среди всех специй мира, я нашел засушенные розовые бутоны темно-розового, почти фиолетового цвета с ароматом розы и сена. Торговцы также предлагают традиционные бутыли или флаконы с розовой водой. На их этикетках краски соревнуются в яркости. В Камсаре, столице производства розовой воды в Иране, я видел десятки скромных производителей, которые во дворах своих домов занимались дистилляцией цветов в маленьких примитивных медных перегонных аппаратах.
Рецепт розовой воды настолько же древний, насколько простой: смесь свежих цветов и воды кипятят, потом конденсируют пар с помощью холодной воды.
Эссенция цветов, растворимая в воде, улавливается паром и придает аромат собранной воде. В горлышках пузатых стеклянных бутылок иногда плавает пленка золотистой эссенции, нерастворимая водой. Это знак качества. В исламской культуре розовая вода присутствует везде. Она – источник очищения. Ее используют для омовения рук и для опрыскивания стен домов и мечетей. В Иране она часть повседневности.
Я пересек иранское плато, пустынный океан, продуваемый ветрами, окруженный вдали голубыми горами. Двигаясь с севера на юг мимо рощ фисташковых и гранатовых деревьев, мимо селений с глинобитными домиками в тени зизифусов, я восхищался плантациями роз, похожими на зеленые ленты среди пустыни, украшенные цветами, оттенкам которых высота и сухой воздух придают особенную насыщенность. Выросшие в условиях нагорья, на высоте более двух тысяч метров, розовые кусты с бутонами на ветках колышутся на ветру в абсолютной тишине.
В конце пути через пустыню, в месте, похожем на оазис, я встретил тех, кто выращивает розы. Вечером, когда мы пили чай у костра, я вдруг понял, что со времен караванов тут почти ничего не изменилось, если не считать маленького радио рядом с чайником. В кроне зизифуса под треск костра запела птица.
Соловей был как подтверждение, что я в стране роз, ведь более тысячи лет соловьи поют вокруг розовых садов по всей Персии, и душистая вода тихо течет в венах этой страны.
С рождением розовой эссенции, которая более четырех веков входит в состав наших духов, связана красивая история. В 1611 году в Северной Индии, в Агре, Джахангир, падишах империи Великих Моголов, праздновал свою свадьбу с Нур-Джахан, персиянкой выдающейся красоты и выдающегося же ума. Принимая горячую ванну с розовой водой перед торжествами, принцесса Нур обратила внимание на золотистую масляную пленку на поверхности воды. Так была открыта розовая эссенция. Нур преподнесла мужу драгоценную жидкость, и тот написал: «Этот аромат настолько сильный, что одной капли на ладони достаточно, чтобы благоухала вся комната, словно множество бутонов расцвели одновременно. Ни один аромат не сравнится с ним, он успокаивает сердца и восстанавливает души».
В трех часах пути от Агры и Тадж-Махала я искал следы эссенции принцессы Нур в перегонном цехе, где, казалось, ничего не изменилось со времен моголов. Появились лишь несколько электрических лампочек. На этой большой ферме с непаханой землей, где все работают в набедренных повязках и тюрбанах, с босыми ногами, дистиллятор, сидя на корточках над большим медным чаном, вручную месит глину, которая соединит части перегонного аппарата. Трубки из стеблей бамбука соединены между собой веревками, сложный узор которых – настоящее произведение искусства. Эссенцию, собранную в медные горшки с изящным узором, убирают в холодное место, под защиту глиняных стен. Сухие коровьи лепешки помогают поддерживать огонь под перегонными аппаратами. В этих перегонных конструкциях, ровесницах Тадж-Махала, есть что-то величественное, почти мистическое. Словно это памятник Джахангиру и принцессе Нур, которые открыли розовую эссенцию.
В Турции я несколько лет занимался заводом, производящим розовые экстракты. Около пятидесяти селений, расположенных вокруг города Испарта, с тридцатых годов выращивают розы для парфюмерии. Туркам потребовалось почти пятьдесят лет, чтобы снова обрести розы, потерянные Османской империей после отсоединения независимой Болгарии, земли розовых садов, любимых султанами. Я вспоминаю Ахмета, нашего посредника в торговле цветами из далекой равнинной деревни. На склонах гор тщательно обработанные участки с розовыми кустами цеплялись за землю, словно ковры, расстеленные между пшеницей и абрикосовыми деревьями. В тени орешника стояли крестьянские дома из камня, самана и дерева. Женщины прядут и работают в поле, мужчины беседуют в кафе, много курят, пьют чай и играют в домино. Магазин Ахмета был маленькой комнатой с голубыми стенами, в которой стоял стол с весами. На стене висел портрет сепией глядящего волком Мустафы Кемаля Ататюрка в каракулевой папахе. Именно он возобновил выращивание роз в Испарте в 1920-е годы, создав большой кооператив и перегонные цехи. Ахмед пригласил меня позавтракать с ним на террасе под старым орешником и представил мне свою самую младшую дочь. Сонгюль было, должно быть, лет десять, и ее имя означало «последняя роза». По ее напряженному взгляду я понял, что она олицетворяла решимость турок продолжать культуру садоводства, которая когда-то обслуживала султанов. В Сонгюль была гордость османов, занимавшихся дистилляцией королевы цветов на своей земле.
Очень далеко от Шираза, на юге Марокко, возле Атласских гор, отделяющих страну от пустыни Сахара, дамасские розы цветут каждый год в апреле. Теперь уже никто не знает, с какого времени и каким образом розы попали сюда, но им тут очень понравилось. В конце тридцатых годов французские колонисты построили два завода для экстракции эфирных масел из цветов в городке Эль-Келаа. Они узнали, что местные крестьяне окружают поля изгородями из роз, а цветы собирают в бутонах, сушат и добавляют в хну. Эти заводы в пустыне были необыкновенными и таковыми остались. Построенные на камнях и песке, они расположены внутри укрепления – ксура – просторного двора, окруженного зданиями, увенчанными зубцами. По углам стоят башни. Отсюда открывается потрясающий вид на Атласские горы. Заводы возвышаются над зеленью посадок вдоль реки, текущей у подножия стен.
В течение многих лет я приезжал наблюдать за работой нашего завода. Это было погружение в прошлое, почти галлюцинация.
В цехе находились экстракторы, большие черные чугунные колеса, похожие на гигантские стиральные машины. Через пятьдесят лет после запуска завода все осталось на своих местах. Большой тяжелый перегонный куб, работающий на мазуте, напоминал сейф. Сохранилась атмосфера пятидесятых годов со старыми книгами учета с каллиграфическими записями о купленных цветах и произведенной продукции, с флягами с названиями исчезнувших компаний и мебелью того времени.
Когда выходишь с завода, чтобы спуститься к розариям, видишь, что берега двух рек, текущих через долину, покрыты садами. Роскошная мозаика среди пустыни. Вода течет по крошечным арыкам к маленьким полям бобов, окруженным розариями и плодовыми деревьями. Ранним утром девушки в берберских костюмах, с лицами, закрытыми платками, в шляпах от палящего солнца, выходят собирать цветы. Быстрые, скромные, они собирают розы, которые можно было бы назвать шиповником. В этих полях высятся силуэты ксуров, построенных когда-то у самой воды. Эти защитные бастионы из красной или охряной глины – архитектура пустыни – заброшены. Когда их крыша проваливается, ксуры начинают размокать под дождем. Грустно смотреть на такие руины посреди райского сада. Их стены из глины и соломы тихо рушатся, как будто сожалея об этом. Тишину нарушают только птицы и шум воды. Ветер шуршит в ивах, бегают дети. Они гонят перед собой несколько коров. Пожилые женщины несут на голове огромные охапки люцерны. Девушки относят собранные цветы на взвешивание.
Порой мне казалось, что настоящая дамасская роза здесь, в прекраснейшем из оазисов. Но это было до того, как я открыл для себя Болгарию, страну, национальной эмблемой которой является роза.
