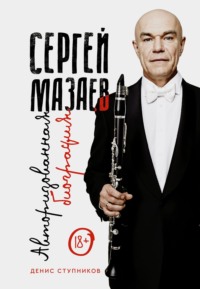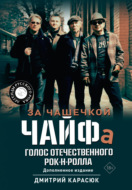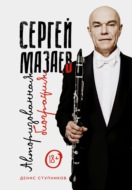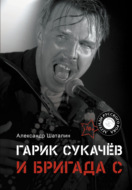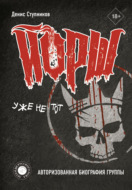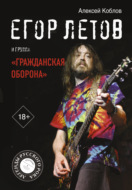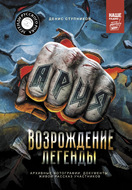Czytaj książkę: «Сергей Мазаев. Авторизованная биография», strona 3
Глава III. «Автограф» на память
Из группы «Здравствуй, песня» Сергей Мазаев ушел в 1985 году. Покидал товарищей он с тяжелым сердцем, понимая, что фактически они остаются без вокалиста. «К 1986-му году мы уже слегка устали, хотелось чего-то нового, – констатирует Сергей Попов. – Сергей Мазаев ушел, и правильно сделал – это был шаг вперед в его карьере. А мы еще год докатывали с Колей Расторгуевым и Михаилом Файбушевичем. А потом уже окончательно пошли каждый своей дорогой, и у всех неплохо получилось».
Следующим этапом для Сергея Мазаева стала работа с будущим участником «Парка Горького» Алексеем Беловым в ресторане «Русь», а потом в модном заведении «Салтыковский» близ железнодорожной платформы «Салтыковская». «Когда к нам в ресторан пришел Коля Расторгуев, я дал ему телефон Игоря Матвиенко. Мне было неудобно, я понимал, что группе нужен солист, и получилось, что я привел себе замену», – объясняет Сергей Мазаев.
Группу Виталия Богданова и Алексея Белова музыканты условно называли «Москва» – по названию предыдущего коллектива Давида Тухманова, в которой Белов как гитарист и аранжировщик играл с 1980 по 1984 годы. «В 1985 году во время фестиваля молодежи и студентов познакомился в Сочи с группой Виталия Богданова, от которых ушел Николай Носков, и они меня взяли, – говорит Сергей Мазаев. – План был такой: фиктивно жениться на фирмачках и уехать поиграть на Западе, а там уже искать группу. В итоге этого ничего не удалось, мы бросили ресторан “Салтыковский”, причем это произошло точно в день Чернобыльской аварии, и я остался не у дел. Алексей Белов ушел в “Парк Горького” и начал делать новую труппу. А я был на улице. Потом меня подобрали ребята из “Белграда 2”».
Ресторан «Белград 2» располагался на Смоленской площади в Москве. «Это был модный центровой кабак», – поясняет Сергей Мазаев. В стенах «Белграда 2» он познакомился со своим коллегой – саксофонистом Игорем Бутманом, с которым потом сотрудничал в самых разных проектах. «Мы с ансамблем “Аллегро” Николая Левиновского должны были лететь на гастроли, но у нас надолго задержался рейс, и друг привез меня, чтобы скоротать время, в “Белград 2”, где тогда пел Александр Маршал, – вспоминает Игорь Бутман. – Там мы и познакомились с Сергеем Мазаевым».
В тот вечер Сергей Мазаев спел в «Белграде 2». Заприметив среди посетителей Игоря Бутмана, достаточно уже известного в музыкальной среде, он устроил с ним спонтанный джем. После этого случая Игорь Бутман зачастил в ресторан, познакомившись со всеми участниками ансамбля. «Сергей Мазаев оказался отменным рок-саксофонистом, его игра походила на манеру Скотта Пейджа из Pink Floyd – звукоизвлечение с такой хрипотцой, близкое к электрогитаре, что мне тоже очень нравилось, – характеризует навыки своего друга Игорь Бутман. – А чисто по-человечески в Сергее меня покорил его потрясающий юмор. Он был очень открытым, фонтанировал огромной энергией. Много говорил, много знал, а о многом из того, что не знал, тоже говорил очень ярко (смеется). Яркий человек, что тут еще скажешь… Мне он тоже относительно моей манеры игры постоянно делал комплименты. Сергей вообще на комплименты исключительно щедр. Он не занимался джазом, поэтому комплименты мне ему было делать легко. Популярен, высок, красив, строен – что еще нужно? И при этом не стеснялся раздавать комплименты направо и налево».
Джемовать на духовых вдвоем Игорю Бутману с Сергеем Мазаевым в те времена не доводилось. Но иногда Мазаев брал у товарища саксофон и с удовольствием играл. «Иногда в “Белграде 2” я играл с постоянным саксофонистом ансамбля, – говорит Игорь Бутман. – А Сергей приходил в ресторан, я брал его альт-саксофон и тоже играл. Поскольку у меня не было тогда радио и я совсем не смотрел телевизор, слышать на тот момент Сергея Мазаева в группе “Здравствуй, песня” я, конечно, не мог. Так что в этот период я узнал его исключительно как музыканта из ресторана. Причем это отнюдь не было плохой характеристикой, ведь попасть играть в такой ресторан было еще сложнее, чем в хорошую группу».
Впрочем, и в хорошую группу Сергей Мазаев в скором времени все же попал. Однажды в «Белграде 2» его заприметили музыканты арт-рокового «Автографа» – бас-гитарист Леонид Гуткин и барабанщик Виктор Михалин. Последний в итоге и решил пригласить его в команду поиграть с октября 1986 года. Любопытно, что приглашение поработать с «Автографом» Сергею Мазаеву поступало еще раньше, когда в 1984 году музыканты коллектива делали сюиту «Век № 20» с Наумом Олевым, писавшим тексты для альбома Посмеяться над собой группы «Здравствуй, песня». Так что свел поэта с «Автографом» изначально, опять же, Сергей Мазаев.
«Автограф» на тот момент испытывал кризис жанра. Сюита на стихи Наума Олева целиком на концертах уже не исполнялась – от нее в репертуаре остались три части, которые музыканты пытались играть в разном порядке в поисках наиболее удачной комбинации. Некоторое разнообразие в программу внесла баллада «Мир в себе», которой стали завершаться все концерты группы, но этого было мало. Виктор Михалин и Леонид Гуткин стали вынашивать идею ввести в состав коллектива второго гитариста, против чего восстал лидер «Автографа» Александр Ситковецкий, категорически не желавший видеть на сцене «конкурента».
Тогда был найден компромиссный вариант по внедрению в команду саксофониста. «Вот это уже было интересно, – пишет в изданной в 2023 году книге “It’s a Long Story” Александр Ситковецкий. – Тенор-саксофон сам по себе – инструмент породистый, яркий, вполне подходящий как для солирования, так и для дуэта с агрессивной электрогитарой. Достаточно вспомнить “пинкфлойдовского” Скотта Пейджа».
Кандидатура Сергея Мазаева также не вызывала у Александра Ситковецкого принципиальных возражений. «В данном случае сама личность Мазая, его, как сегодня бы сказали, “командный” характер и способность моментально расположить к себе кого угодно – слушателя в зале, журналиста на интервью, незнакомую девушку в баре – решили вопрос в его пользу, – продолжает он. – В “нагрузку” Мазаев уговорил нас также взять на работу клавишника группы “Москва” Руслана Дубровина, уже известного своей продвинутостью в клавишной электронике… Приглашение на работу Мазая и Ру позволяло нам убить сразу двух зайцев: добавить в палитру группы новый сильный тембр и одновременно кардинально осовременить звучание наших аналоговых клавишных мастодонтов, солнце которых с приходом нового поколения цифровых синтезаторов понемногу клонилось к закату».

Добавим к этому феноменальные коммуникативные способности Сергея Мазаева, которые в скором времени очень помогут «Автографу» в продвижении пластинки Каменный край, благодаря чему в итоге все 10 песен из альбома ротировались на радио «Юность». «Мазаев тогда сыграл большую роль в организации съемок 4-х клипов и лично объездил все редакции ТВ, проталкивая их в эфир», – признавался Александр Ситковецкий.
Дебют Сергея Мазаева в «Автографе» состоялся 26 ноября 1986 года на концерте в Пензе. В группе он принялся не только играть на саксофоне, но и исполнять часть вокальных партий, а также участвовать в создании песен. Бенефисом Сергея Мазаева в «Автографе» стала «О, мой мальчик» из альбома Каменный край (1989) – невероятно светлая, жизнеутверждающая и напористая песня. Саксофонное соло Сергея Мазаева в ней звучит озорными солнечными всполохами – броско, но при этом как-то мягко и обволакивающе. Вокальную партию он исполнил на пару с основным певцом «Автографа» Артуром Беркутом (Михеевым).
Сохранилась уникальная видеозапись выступления «Автографа» на фестивале видеоклипов весной 1989 года. Сергей Мазаев с аккуратно зачесанными волосами и в безупречно выглаженной рубашке со стоячим воротничком начинает исполнять первый куплет песни «О, мой мальчик», мгновенно располагая к себе публику, приподнимая стильные черные очки и доверительно подмигивая на камеру во время строчки «Только там солнце – только там». Жонглирующий микрофонной стойкой Артур Беркут на его фоне несколько теряется, но компенсирует ситуацию, повалившись на спину на финальных аккордах выступления.
На концерт «Автографа» в 80-е горел желанием попасть друг Сергея Мазаева Игорь Бутман, но пересечься во времени-пространстве у них долгое время фатально не получалось. В какой-то момент гастрольные графики коллективов обоих музыкантов «Автограф» и «Аллегро» сошлись в Тамбове в 1986-м, но, понятное дело, каждый должен был быть в этот день на своем концерте. «Единственное, мы в этот день поиграли с “Автографом” в карты на деньги, а на следующий день гуляли на их деньги, – смеется Игорь Бутман. – У них было больше денег, чем у нас, поэтому мы не стеснялись».
По мнению Игоря Бутмана, инструментальное мастерство «Автографа» явно выделялось среди всех остальных советских групп. «Да и пели они очень здорово, а Ситковецкий был хорошим гитаристом, – рассуждает он. – Это была очень виртуозная и мощная рок-группа, играющая арт-рок». Расслышать «Автограф» по-настоящему Игорю Бутману довелось уже во время их гастролей в США.
Во время гастролей «Автографа» по США Сергей Мазаев сделал Игорю Бутману царский подарок. «Мы с ним пошли в магазин виниловых пластинок Tower Records в Бостоне, где он купил мне штук 10–15 моих любимых альбомов, – вспоминает саксофонист. – Это было нереально!»
После двух поездок в США в 1988 году «Автограф» решил записать альбом, поскольку перерыв в дискографии был уже внушительным и нужно было срочно нарабатывать новый материал. Впервые группа фиксировала в студии не заранее отрепетированную готовую программу, а создавала песни с нуля из разрозненных наработок и спонтанных импровизаций – за исключением песни «Я люблю», которая ранее исполнялась вживую. Альбом Каменный край записывался в первой половине 1989 года суперсовременной на тот момент студии МДМ, руководил которой Иван Замараев, который сейчас работает в норвежском оперном театре.
«Это была престижная пафосная работа, в результате которой у меня выросла самооценка, – говорит Сергей Мазаев. – Тогда Московский дворец молодежи стал одним из центров музыкальной жизни столицы, как и Центр Стаса Намина. Здесь был потрясающий пульт, новая студия. Там я лично познакомился с группами “Альянс” и “Николай Коперник”, с лидером которой Юрием Орловым – выдающимся художником – мы дружили. А “Каменный край” по тем временам была очень красивая и звучная пластинка, ее многие слушали. Но мы тоже отчасти были слепыми в чулане, потому что у нас не было еще опыта работы с западными продюсерами, и поэтому сами только догадывались, как надо делать те или иные вещи».
Виниловый диск с восемью песнями вышел на «Мелодии» в июле 1989-го. Годом позже Александр Ситковецкий издал на том же лейбле и CD (один из первых в СССР!), где уже было на две песни больше – «Амур» и «Мир в себе». Но Сергея Мазаева на тот момент уже не было в коллективе…
Дело в том, что разногласия в группе все время только нарастали. Тем же «Каменным краем», восхитившим и критиков, и рядовых советских слушателей, сами музыканты остались жутко недовольны, посчитав его чрезмерно «попсовым». Масла в огонь подливали американские продюсеры «Автографа», посчитавшие Каменный край «слишком клавишным» диском. Поэтому американский англоязычный альбом Tear Down the Border музыканты скрепя сердце сделали гитарным. Запись получилась откровенно вымученной, что нельзя поставить в вину тому же Сергею Мазаеву, который отлично сработал, например, в инструментальном «медляке» «Going Home».
«В коллективе была очень странная ситуация, и я там очень странно себя ощущал, – признается он. – У меня постоянно возникало ощущение, что я там был лишним человеком. Все вроде бы было хорошо, но недомолвки начались, когда мы приехали в США и делали шоукейс для Capitol Records. Внешне я был тогда как Леонардо ди Каприо, и американцы, когда мы играли шоукейс для студий, хотели сделать меня фронтменом “Автографа”. Они даже планировали, чтобы я исполнил свежую на тот момент песню Гэри Мура “Empty Rooms”. Но мне поначалу даже члены группы об этом ничего не сказали, потому что и без того считали себя стилистически цельной командой. Когда мы вернулись в сентябре 1989 года на родину, я ушел из группы. Вместе со мной ушел и Виктор Михалин».
В любом случае, появление Сергея Мазаева в «Автографе» ознаменовало кардинальную перезагрузку для заматеревшего коллектива. Не все старые фанаты коллектива приняли эти изменения. По иронии судьбы, среди этих скептиков оказался будущий музыкальный руководитель Оркестра Сергея Мазаева Александр Мясников. «Конечно, я заметил в свое время, что в “Автографе” появился замечательный саксофонист и певец, – рассуждает спустя десятилетия он. – Отметил для себя, что все профессионально сыграно и спето. Но сама стилистика “Автографа” мне на данном этапе импонировала уже меньше, чем раньше. Наверняка это дело вкуса, но то, что делал там Леня Макаревич, было, на мой взгляд, ближе к арт-року и симфо-року. Работая в Оркестре Силантьева, я просто так сделал для нашего коллектива переложение композиции “Пристегните ремни безопасности” – своеобразная дань уважения Лене Макаревичу. Он переслал эту запись Александру Ситковецкому, руководителю группы “Автограф”, который высоко оценил аранжировку и сказал, что это именно то звучание, которое он слышал у себя в голове, когда сочинял эту композицию».

Диаметрально противоположно оценивает роль Сергея Мазаева в «Автографе» прославленный композитор Владимир Матецкий: «Тот период, кстати говоря, я очень хорошо помню. Получилось так, что Сергей Мазаев как-то незаметно, исподволь, влился в группу Саши Ситковецкого, добавив удивительную концертную краску в коллектив. Причем как звуковую, так и визуальную. И это был взаимовыгодный альянс – Сергей и сам поднабрался опыта, стал более уверенным на сцене. Его сольные саксофонные вставки были к месту в “Автографе”, а позже удачно перетекли в сценический антураж “Кодекса”. “Автограф” – техничная группа, причем по тем временам коллектив имел прекрасный комплект аппаратуры, они здорово звучали. Музыканты “Автографа” все тщательно репетировали и крайне ревниво относились к репертуару, играя только свои произведения. И Мазаев – со своим-то вольным духом и тягой к импровизации – вдруг стал в “Автографе” незаменимым: он как бы высветил новые музыкальные грани, сняв элемент излишнего пафоса. Вообще-то, пафос в музыке – вещь опасная: кажется, что он создает некий “пьедестал недоступности” для музыкантов, но на самом деле такой пьедестал мгновенно покрывается трещинами и рушится… Так вот, Мазаев со своим анти-пафосом как-то незаметно стал в “Автографе” некой связующей субстанцией, ликвидирующей острые углы во взаимоотношениях музыкантов и позволяющей всем чувствовать себя более расслабленно. С его приходом все стало более мягким, обтекаемым и артистичным… Я рад, что они расстались по-дружески: каждый пошел своим путем… Это были замечательные годы, и у них были отличные концерты…»
После ухода Сергея Мазаева «Автограф» просуществовал еще полгода и распался. Александр Ситковецкий не захотел отдавать права на группу вокалисту и одному из главных авторов песен группы Артуру Беркуту, чтобы тот мог продолжить работу под прежней вывеской. Беркут занялся своими проектами, в числе которых был культовый Zooom, а в 2002 году на 9 лет стал вокалистом «Арии», в которой его судьба свела с согруппником Сергея Мазаева по «Здравствуй, песня» Сергеем Поповым. «Несомненно, Сергей Мазаев правильно сделал, что принял предложение “Автографа” присоединиться к ним, – подчеркивает Сергей Попов. – Конечно, он здесь не был таким лидером, как в “Здравствуй, песня”, но все, что Сергей делал в “Автографе”, было убедительно и сильно – мне нравилось».
Уже играя в группе Zooom, бывшие коллеги Сергея Мазаева по «Здравствуй, песня» и «Автографу» вновь пересеклись с ним. «Когда у нас с Артуром Беркутом и Толей Шендером был проект Zooom, Сергей помогал нам, и мы даже однажды выступали с “Моральным кодексом” на одном концерте, – делится интересным фактом Сергей Попов. – “Моральный кодекс” – хорошая команда с отличными музыкантами, всегда звучит убедительно и плотно. Сергей со свойственным ему юмором иногда говорит о своей нынешней группе: мы, дескать, играем “рублевский рок”».
Сейчас Сергей Мазаев искренне сожалеет, что «Автограф» тогда так и не продолжил свой путь – пускай даже и без него. «“Автограф” – потрясающий проект! – констатирует он. – Это был самый передовой проект в России – прогрессив-рок, единственная группа в своей нише. Да, были еще “Диалог” и “Интеграл”, но они делали подобную музыку только на начальной стадии своего существования. Потом “Интеграл” прекратил свое существование, а его создатель Бари Алибасов занялся популярной музыкой, а Женька Белоусов, игравший в “Интеграле” на басу, начал сольную карьеру. Еще был свердловский “Урфин Джюс” Александра Пантыкина, но они больше тяготели к тяжелой музыке и “песенности”. И только у нас в “Автографе” были большие развернутые композиции».
Тем не менее, возвращение Сергея Мазаева во временно воссоединившийся «Автограф» состоялось уже в 2005 году. На юбилейном концерте в СК «Олимпийский» 23 июня присутствовало, по оценкам очевидцев, 7–8 тысяч человек. Сергей Мазаев, наряду с экс-вокалистами «Автографа» Сергеем Брутяном и Крисом Кельми, стал специальным гостем шоу. Облаченный в фирменный белый спортивный костюм, он провел на сцене в общей сложности около сорока минут, сыграв партии саксофона в «Городе», «Страннике», «Каменном крае», «Головокружении», «О, мой мальчик», «Мир в себе» и кларнета в «Облаках». Также Сергей Мазаев выступил в роли основного вокалиста в «О, мой мальчик» и «Мир в себе». Во второй из них ему, в частности, достались строчки «Мир в себе – он, наверно, прост, гораздо проще, чем загадка звезд», которые он исполнил невероятно достоверно, как человек, пребывающий в полной гармонии с миром и с самим собой.
Глава IV. «Моральный кодекс» строителей капитализма
Вернувшись в 1989 году из США и расставшись с «Автографом», Сергей Мазаев некоторое время, по его собственному выражению, «бил баклуши». Но продолжалось это буквально считанные дни. В сентябре того же года он встретился с продюсером, поэтом и музыкантом Павлом Жагуном и предложил «чего-нибудь замутить» вместе. «А я уже мучу́!» – последовал деловитый ответ. На вопрос «А что?» Павел Жагун ответил так же просто: «Поехали – покажу!»

Незадолго до этого Павел Жагун покинул группу Аллы Пугачевой «Рецитал», где играл на трубе. А примерно за три года до судьбоносной встречи с Сергеем Мазаевым он организовал группу «Скандал», в которой играл будущий гитарист и композитор «Морального кодекса» Николай Девлет-Кильдеев (для своих – Кильдей). Несмотря на то, что модный гитарный проект был нацелен на быстрый успех, у музыкантов что-то пошло не так. «У них были какие-то свои внутренние разборки, которые начались раньше, чем они начали зарабатывать», – предполагает Сергей Мазаев. С группой «Скандал» он на тот момент был знаком не понаслышке. На фестивале «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец» «Автограф» делил со «Скандалом» одну гримерку, и участники обеих команд быстро нашли общий язык.
После ухода из «Скандала» Павел Жагун решил основать новую группу Red Baron & Heroes. Костяк ее инструменталистов, помимо Девлет-Кильдеева, обладавшего неповторимой манерой игры на гитаре и узнаваемым саундом, составили еще двое участников. Бас-гитарист Александр Солич отлично зарекомендовал себя ранее в группе «Цветы» Стаса Намина и в «Лиге блюза» самобытного вокалиста Николая Арутюнова. Техничный и ответственный барабанщик Игорь Ромашов (иногда фигурирует как Ромашев) практически не имел себе равных среди коллег, а до участия в проекте Павла Жагуна играл в «Метрономе» и у певицы Кати Семеновой.
На тот момент группой Red Baron & Heroes уже было записано 6–8 песен и снято два клипа. Сам же Красный Барон – солист группы Роман Ивасивко (по другим сведениям – Ивасько) – скорее числился в этом качестве, ибо обитал в Канаде и, будучи талантливым фотографом и работая на CBS, присоединяться к согруппникам отнюдь не спешил. Сергей Мазаев считает, что он просто не особо верил в этот проект.
В ожидании Ивасивко участники недоукомплектованной группы решили пока попробовать исполнить что-нибудь на русском. Пока еще в тестовом режиме Сергей Мазаев, которому изначально была отведена в команде роль саксофониста, начал в тестовом режиме петь русскоязычную программу, хотя песни для Красного Барона изначально сочинялись на английском. Так, одна из первый песен Red Baron & Heroes «Why Do Tears Flow» на слова Романа Ивасивко превратилась в одну из первых песен «Морального кодекса» «Я тебя люблю» на стихи Павла Жагуна и т. п.
Без присутствия Красного Барона название Red Baron & Heroes потеряло всякий смысл. В какой-то момент группу предложили назвать «Бриллиантовая рука». Теоретически эта пародийная «гангстерская эстетика» была Сергею Мазаеву на тот момент близка, потому что он сам как раз вернулся из Америки с кучей денег и кипой модных компакт-дисков, ощущая себя «богатым пацаном». Но была опасность, что простые жители стоящей на пороге очередного краха страны этой тонкой самоиронии могли не разглядеть, поэтому было выбрано чуть менее претенциозное название «Моральный кодекс строителей капитализма», которое вскоре все же сократили до вполне нейтрального – «Моральный кодекс».
Сергею Мазаеву очень понравилось, как играет гитарист Николай Девллет-Кильдеев, да и все остальные музыканты, но не очень приглянулись спартанские условия репетиционной точки. Поэтому первым делом он предложил новым согруппникам сменить репетиционную базу. «В техническом отношении у них было все не очень комфортно, – вспоминает Сергей Мазаев. – Павел Жагун, который инициировал это дело, работал раньше в “Рецитале” у Аллы Пугачевой. Естественно, у них были хорошие отношения с ее звукорежиссером Александром Кальяновым, который приютил их у себя в клубе “Высотник” в Раменках. Когда я приехал на репетицию, то увидел, что они каждый день вынимают из подвала и ставят на сцену свои усилители».
У Сергея Мазаева был знакомый – успешный арендодатель музыкального оборудования Валерий Маркович Спиртус, который ставил аппаратуру в аренду группе «Цветы» Стаса Намина. В его вотчине – клубе ДК «Каучук» на Плющихе – кроме «Цветов» базировалась, например, в 80-е Алена Апина. «Я туда пришел к Валере и попросил дать нам комнату под репетиции, – продолжает Сергей Мазаев. – Там было двухкомнатное пространство с убогой студией, и мы начали репетировать 6 раз в неделю. Я влился, и мы вместе начали делать песни на абракадабре. В таком виде у нас сначала звучали “Я тебя люблю” и “До свидания, мама”, а потом Павел Жагун написал для них на русском, я считаю, совершенно выдающиеся тексты. Мы приходили в 12:00–12:30, а Игорь Ромашов уже сидел там и занимался на барабанах».
Просидев почти полгода на репетиционной базе по шесть дней в неделю, «Моральный кодекс» получил четко отрепетированную программу. В январе 1991 года с этими многократно обкатанными песнями музыканты отправились в студию Московского дворца молодежи (МДМ), чтобы попытаться сделать запись. Буквально за один день там они умудрились записать 13 болванок. Однако из той сессии в чистовой вариант дебютного альбома Сотрясение мозга вошла только «Я тебя люблю».
Все остальные песни для этой пластинки «Моральный кодекс» записал уже в студии SNC Records в Зеленом театре Стаса Намина. «Первые две песни писал Сергей Соловьев, но он уехал с “Парком Горького” в США, и нас стал записывать Олег Сальхов, – рассказывает Сергей Мазаев. – Это был выдающийся по своим дарованиям человек. Он разбирался не только в звукорежиссуре, но и в культуре как таковой. Например, он дал мне первым почитать Владимира Сорокина».
Именно в Зеленом театре Стаса Намина «Моральный кодекс» нашел наконец своего постоянного клавишника Константина Смирнова, который тогда работал в SNC Records, на которой как раз появилась штатная должность постоянного аранжировщика. «Первым клавишником у нас был Михаил Кулаков, который потом ушел сочинять песни и делать аранжировки. Следом на клавишных играл Константин Гаврилов из “Альянса”, который потом уехал в США», – перечисляет Сергей Мазаев.
До «Морального кодекса» Константин Смирнов играл в одной из любимейших групп Сергея Мазаева «Николай Коперник». «Я сделал ремиксы на несколько песен “Морального кодекса” – “До свидания, мама” и др., – обозначает момент своего попадания в группу Константин Смирнов. – В группе играл на клавишных мой друг – Костя Гаврилов из группы “Альянс”. Он даже успел поучаствовать в съемках клипа “До свидания, мама”, при монтаже его даже чуть-чуть оставили. Он и предложил меня в качестве замены в “Моральном кодексе”. В группе мне предложили хорошие условия, а вы ведь наверняка помните, что творилось в те времена».
Несколько песен, вроде «Я тебя люблю» и «До свидания, мама», были уже записаны «Моральным кодексом» еще без Константина Смирнова. «А остальные вещи, вроде “Алфавита” и прочего, делались уже при моем участии на SNC, – объясняет он. – На мой взгляд, альбом получился эклектичным и, можно сказать, свободным. Мы особо не зажимали себя рамками какого-то стиля, много экспериментировали со звуком. Я находился в привычной для себя атмосфере на студии, где уже работал раньше. Благодаря этому я чувствовал себя вполне комфортно, тем более – у меня была постоянная работа. А вот ощущения, что мы делаем что-то из ряда вон выходящее, у меня не было. Просто был довольно интересный процесс записи, в который мы полностью погрузились и с удовольствием этим занимались. Конечно, нужно вспомнить добрым словом звукорежиссера Олега Сальхова, который записывал этот альбом, хотя он и делал его не весь».
Те, кто застал время появления «Морального кодекса» в информационном пространстве, прекрасно помнят, насколько выгодно их видеоклипы и радиосинглы отличались как от ширпотреба от адептов поп-музыки, так и от привычных образчиков исполнителей русского рока. «Такая цель ставилась нами осознанно, – утверждает Сергей Мазаев. – Когда я вернулся из США, то привез почти 120 пластинок. Это был полный эксклюзив, и стоили они очень дорого. Там было много из того, что я любил и слушал раньше. Тем более, перед отъездом в Россию я купил в Германии офигенную аппаратуру, которую потом Юрий Фишкин (звукорежиссер “Автографа” – прим. автора) доставил в Москву, так как наша техническая группа вернулась потом отдельно от музыкантов в СССР из Фрайбурга. А привез я альбомы INXS Kick, проект Дэвида Боуи “Tin Machine”, все, что было из ZZ Top, что-то из Брайана Ферри, немножко Rolling Stones. Музыкально же “Моральный кодекс” скорее ориентировался на INXS и The Clash. Считаю, что у нас все получилось».
Константин Смирнов, в свою очередь, вспоминает, что также не испытывал в то время недостатка в плане музыкальной информации: «На студии SNC у нас работал продюсер Сергей Шкодин, у которого была огромная коллекция дисков. То же самое могу сказать и о Олеге Сальхове. “Николай Коперник” тоже всегда интересовался передовой музыкой. Поэтому не могу сказать, что на момент прихода в “Моральный кодекс” я ничего не слышал».
Сергей Мазаев уверен, что в выработке собственной уникальной стилистики «Моральному кодексу» сыграло на руку отсутствие в рок-музыке общепринятых канонов, на которые можно было ориентироваться. «Рок-н-ролл вообще возник как самодеятельное искусство, – замечает он. – Никаких “школ рок-н-ролла” не существовало, потому что музыканты типа Чака Берри научились это делать сами и так же друг у друга перенимали. То же самое и мы: я делал какие-то импровизации на саксофоне, Коля снимал гитаристов, Саша Солич – басистов. Коля идеально может имитировать Блэкмора. Например, он может сыграть фразу, которую Блэкмор никогда не играл, но в таком же стиле – точно так же, как Владимир Сорокин имитирует чужие тексты».
Очевидный вклад в самобытную стилистику «Морального кодекса» внес его продюсер и основной поэт-песенник Павел Жагун. «Паша Жагун – не просто поэт-песенник, но и настоящий эстет, – не устает напоминать Сергей Мазаев. – У него даже выходили поэтические сборники с экспериментальными для всех нас стихами. Все это понятно только специалистам, которые профессионально занимаются лингвистикой. Если честно, у Жагуна есть просто выдающиеся стихи».
Любопытно, что на раннем этапе существования «Морального кодекса» Сергей Мазаев и Павел Жагун не только творили, но и жили вместе. «С Пашей мы тогда обитали в одной квартире, – говорит Сергей Мазаев. – Я ушел из семьи в 1985 году, а когда вернулся из Америки, жить было негде. Первая хата у нас была возле таксопарка у метро “Алексеевская”. Мы приезжали в ДК “Каучук”, там уже сидел Игорь Ромашов, и мы все вместе с Павлом придумывали риффы. Мы творили сообща – это было самое лучшее время! Мы все любили друг друга совершенно беззаветно и искренне. Это было время максимального окситоцина – гормона доверия».
Из этой алхимии и возник настоящий шедевр – первый альбом «Морального кодекса» Сотрясение мозга, релиз которого состоялся в 1991 году – на виниле в SNC Records и на CD как авторское издание. Причем на компакт-диске было на две песни больше – инструментальная композиция «Сотрясение мозга #2» и англоязычный рок-н-ролл «I Don’t Care», оставшийся от наследия Красного Барона Романа Ивасивко на его же текст. Изначально «Моральный кодекс» хотел назвать свой дебютный диск «Лоботомия», но это иностранное слово, а музыкантам не хотелось излишне заигрывать с западными реалиями.
Альбом начинается с инструментала «Сотрясение мозга #1», который появился не от хорошей жизни – музыканты просто так и не смогли придумать русского текста для англоязычной композиции. Изначально это должна была быть песня, которая могла начинаться с фразы «You come in great my heart» («Ты занимаешь большое место в моем сердце»), на которую так и не написался русский текст. Но все, что ни делается, все к лучшему. «Моральный кодекс» создал прецедент, когда по инструментальной композиции называется целый альбом. Это указывает на особую роль инструменталов в первых альбомах группы. К тому же на дебютной пластинке они располагались в сильной позиции, открывая и закрывая альбом (правда, только на CD, а не в виниловой версии, где заключительного инструментала просто не было) и побуждая слушателей обращать на музыкальную составляющую не меньшее внимание, чем на тексты.