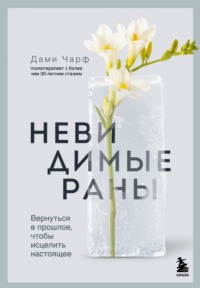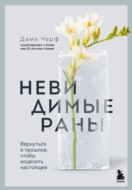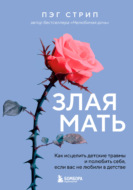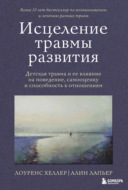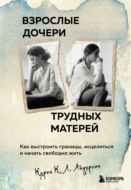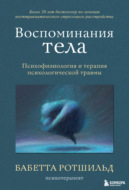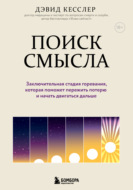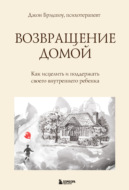Czytaj książkę: «Невидимые раны. Вернуться в прошлое, чтобы исцелить настоящее», strona 3
Чудо взаимного контакта
Дети вступают в контакт сразу после рождения. Наука предполагает, что система привязанности является врожденной и мы, люди, «запрограммированы» на привязанность. Младенец с самого начала способен общаться с матерью и другими близкими людьми с помощью звуков и телодвижений. «Через повторный опыт гармоничного диадического взаимодействия с матерью или другим опекуном ребенок постепенно развивает у себя практику подачи сигналов, установления контакта и ответа на предложения своего собеседника о контакте»5.
Благодаря гармоничному взаимодействию происходит чудо: два человека становятся все более и более взаимосвязанной системой, они начинают дышать в одном ритме, улыбаться вместе, их сердцебиение выравнивается, и они бессознательно отражают друг друга. Этот тип общения предъявляет высокие требования к его участникам. Для него важно тесное взаимодействие и сильная вовлеченность. Любое отвлечение внимания расстраивает и нарушает гармонию этого танца двух душ вне зависимости от их возраста.
Ощущение гармоничной взаимной связи дает уверенность, а безопасность действует расслабляюще и успокаивающе. Ребенок знает, что существует человек, который заботится о нем с любовью. Успокаиваясь, он может поддерживать свой уровень возбуждения в пределах окна толерантности и ослаблять активность симпатической нервной системы. С течением времени окно толерантности расширяется, и ребенок обретает способность регулировать все большее и большее возбуждение самостоятельно.
Стимулировать, не перегружая
Однако окно толерантности увеличивается не только за счет успокоения. Не менее важна и стимуляция. Когда родители играют с младенцем, смеются вместе с ним, сопят ему в животик и делают другие милые глупости, они стимулируют симпатическую нервную систему ребенка, которая активируется не только стрессом, но и радостью, счастьем, любопытством, волнением и другими положительными ощущениями. Так ребенок узнает, что сильное возбуждение может быть приятным и доставлять удовольствие. Он снова и снова попадает в верхние области своего окна толерантности. Однако иногда радость оборачивается стрессом, который проявляется во фрустрации, гневе и криках. Здесь нужны родители, которые с любовью будут успокаивать малыша, пока он не сможет снова расслабиться. Благодаря этому он узнает, что в переутомлении нет ничего страшного – ему немедленно оказывают помощь, и все снова становится хорошо.
Но бывает, что в такой ситуации перенапряжения некоторые родители продолжают и дальше стимулировать ребенка. Они не видят, что он уже находится в состоянии стресса и пытается отвернуться или иным образом выразить, что испытывает чрезмерную нагрузку. Когда близкие люди не способны адекватно интерпретировать сигналы ребенка и реагировать на его потребность в отдыхе, он узнает, что возбуждение само по себе является чем-то неприятным. Позже взрослый человек будет избегать ситуаций, которые могут сильно возбуждать. Он или она будет стараться поддерживать в жизни равномерный уровень нервного напряжения, потому что все остальное было бы связано со стрессом и с еще большей дисрегуляцией. Однако из-за подобных ограничений люди упускают переживания счастья и радости, потому что те тоже характеризуются высоким уровнем возбуждения…
Таким образом, налаженное общение и сорегулирование важны в двух направлениях: для успокоения и для стимулирования.
Мое я – само наше тело
Совместное регулирование посредством любовного общения и связи с близким человеком особенно способствует развитию так называемой префронтальной коры, которая, помимо прочего, отвечает за саморегуляцию. Только через переживание гармоничного и согласованного взаимодействия мы развиваем чувство «я» и «телесную самость».
Телесная самость означает, что человек осваивается в своем теле и ощущает его как свой дом. Со временем у него возникает чувство «я», с которым он себя отождествляет и которое при благоприятных обстоятельствах воспринимает как нечто ценное и привлекательное. Благодаря чуткому согласию близкого взрослого у ребенка развивается чувство защищенности и уверенности в том, что он справится с трудностями своими силами (так называемая самоэффективность). Когда опекун способен чутко реагировать на потребности малыша, тот чувствует, что его поддерживают не только физически, но и морально. В связи с этим психологи говорят о контейнировании.
Позитивное совместное регулирование
Способность опекунов настраиваться на настроение и потребности младенца и реагировать на них называется ментализацией. Ментализация предполагает наличие у взрослого способности к рефлексии. Гармония проявляется в ритме предложения, звуке и громкости голоса, прикосновении, выражении и темпе речи, жестах и мимике. Благодаря этому так называемому правополушарному общению возникает последовательность сигналов и реакций, высказываний и резонанса, которая делает счастливее обоих участников общения. Такая позитивная совместная регуляция помогает ребенку постепенно расширять свой спектр в пределах окна толерантности и лучше справляться как с положительным, так и с отрицательным возбуждением. Младенцы способны к такому взаимодействию сразу после рождения и очень чутко реагируют на потерю контакта6.
Если же взаимодействие с опекунами регулярно нарушается, возникает травма развития. Это не только ставит под угрозу физическую и психологическую целостность, но и может привести к тому, что ребенок научится не доверять другим людям и замкнется в себе. Из этого следует: «Им [этим детям. – Прим. автора] невозможно развить ощущение единства и непрерывности себя в прошлом, настоящем и в будущем, а также в отношениях с другими „я“»7.
Это связано с тем, что способность ребенка к саморегуляции не может развиваться должным образом. Саморегуляция – важный навык, она нужна нам, чтобы контролировать чувства и эмоции. Нет ничего, что могло бы выбросить нас из окна толерантности быстрее, чем эмоции. В то же время вряд ли что-то способно успокоить нас быстрее, чем те же эмоции. Отсюда становится понятно, какое большое значение имеет умение управлять своими эмоциями.
Без хорошей саморегуляции мы вряд ли сможем справляться с жизненными трудностями в долгосрочной перспективе.
Регуляция эмоциональной «температуры»
На любой внешний раздражитель мозг реагирует посредством системы оценки и возбуждения. Это значит, что мы оцениваем все, что поступает к нам в виде сигналов. Система оценки работает ниже порога осознания и находится под сильным влиянием нашего предыдущего опыта. В сознание проникает только то, что настраивает наш мозг на определенный уровень возбуждения.
Для оценки любой ситуации нашему мозгу нужно тело. Мозг оценивает информацию, посылаемую телом (так называемые соматические маркеры, или телесные ощущения). То, с какой интенсивностью мы позволяем чувствам проявляться, во многом связано с шириной нашего окна толерантности. И здесь мы находим отражение качества наших ранних отношений.
Исследования показали, что дети матерей, страдающих депрессией, менее способны впустить в свою жизнь счастье. Эти матери не достигли с ними верхней границы окна толерантности, редко «тормошили» их, и на их лицах дети редко находили радостный отклик в отношении самих себя. Дети, к которым проявляют слишком мало внимания, отстраняются от мира. Организм как бы закрывается – или отключается (англ. shut-down), и ребенок больше не присутствует по-настоящему в себе и в мире.
Способность к саморегуляции включает в себя еще несколько важных процессов, которые нам необходимы в повседневной жизни. Например, мы должны постоянно контролировать чувствительность, с которой реагируем на раздражители окружающего мира. Люди, у которых широкое окно толерантности, производят впечатление очень уравновешенных, едва ли что-то способно выбить их из колеи. В то же время реакция на раздражители окружающей среды у людей с узким окном толерантности часто бывает преувеличенной или, наоборот, преуменьшенной. Как слишком высокая, так и слишком низкая чувствительность являются следствием ранних травм.
Искусство «остывать»
То, насколько хорошо мы умеем успокаиваться после стресса, очень важно для качества нашей жизни. Это касается не только событий, которые мы обычно называем «стрессом», но и всех переживаний, которые вызывают у нас сильное возбуждение. Для некоторых людей необходимость регулировать чудесные переживания и ощущение счастья – настоящая проблема. Они не могут уснуть и чувствуют себя дискомфортно, потому что – совершенно непонятно для других – просто не способны «остыть».
Люди испытывают стресс – значит, им нужна и способность восстанавливаться. В процессе этого сходят на нет эффекты сильного эмоционального возбуждения, и активность нервной системы снова падает до комфортного уровня. Люди, которые испытывают трудности с этой модуляцией, часто склонны избегать жизненных ситуаций, вызывающих сильные эмоциональные реакции. Они становятся заложниками собственной эмоциональной нестабильности.
Чтобы способствовать процессу восстановления, важно научиться наблюдать за собой в моменты, когда мы возбуждены. Только тогда мы сможем научиться направлять внимание на свое внутреннее состояние и внутренний или внешний диалог, чтобы ощутить собственную эмоциональную и физическую реакцию. Благодаря этому внутреннему вниманию со временем можно научиться делать перерыв между стимулом и реакцией и использовать эту паузу, чтобы прийти к внутреннему равновесию.
Люди с тяжелой травмой обычно не обладают хорошо развитым навыком самоанализа. Здесь мы должны четко различать способность к саморефлексии и преувеличенную самоуверенность, которая во многом связана со стыдом и постоянным выяснением того, не сделал ли кто-то что-то не так.
Люди, которые внутренне подавлены, в принципе теряют способность наблюдать за собой и размышлять о своем поведении. В такие моменты они уже не чувствуют, что «испытывают» какую-то эмоцию – они уверены, что «являются» ею. Вот почему эти люди нуждаются в поддержке извне, которая помогает им управлять эмоциями, сорегулировать их. В какой-то момент организм снова обретает способность самостоятельно справляться с состоянием повышенного возбуждения.
Сознательное самовосприятие – еще один важный фактор при овладении способностью к регулированию. Наши внутренние системы оценки постоянно влияют на то, как мы действуем, но мы часто этого не осознаем. Каждая оценка сопровождается эмоциями, они контролируют силу возбуждения и, следовательно, значение, которое имеют для нас события и стимулы. Чем больше мы осознаем этот внутренний процесс, тем больше у нас возможностей на него воздействовать. Кроме того, сознание может влиять на результат эмоциональной обработки. Осознанная осведомленность делает возможной саморефлексию – и это начало перемен. Мы не можем изменить процессы, о которых ничего не знаем.
Особенно ярко наши эмоциональные паттерны проявляются в любовных отношениях. Пример: женщина приходит домой после напряженного рабочего дня. Ее фоновое настроение уже слегка подпорчено. Она входит в дверь – в квартире громко звучит музыка, повсюду валяются вещи партнера, слышится шум душа, а продукты для ужина, о котором договаривались заранее, еще даже не куплены.
В этот момент женщина дает оценку ситуации. Поскольку она уже пришла домой с фоновым чувством раздражения, ее восприятие происходящего окрашено этим «предварительным настроением» – такая предвзятость называется в психологии прайминг. На этой основе производится оценка. Вполне вероятно, что в описанном случае раздражение перерастет в возмущение и совместный вечер пройдет не очень приятно.
Теперь представим себе аналогичный сценарий – с той лишь разницей, что предвзятость женщины можно описать такими терминами, как «в хорошем настроении» и «веселая». Она видит совершенно те же вещи, но оценивает их абсолютно по-другому. Она смеется, может быть, быстро раздевается, проскальзывает в душ к своему партнеру, а потом они вместе идут куда-нибудь поужинать.
Эмоциональность нашего собеседника влияет на нас независимо от того, осознаем мы это или нет. Если мы ведем приятный разговор с очень спокойным и уравновешенным человеком, то впоследствии и сами чувствуем себя уравновешенными и спокойными. Это же верно и в обратном случае, когда мы имеем дело с нервными, запыхавшимися людьми. Тогда нам приходится все время «выступать противовесом», а после мы зачастую чувствуем себя измотанными и уставшими.
В то же время важно отдавать себе отчет, что наши интерпретация и оценка окружения связаны с тем, в каком эмоциональном состоянии мы находимся.
Сдерживаем поток чувств
Способность к саморегуляции также включает в себя то, как мы выходим в мир и что показываем в тот момент, в котором находимся. Умение вести себя в соответствии с ситуацией – очень важный социальный навык. Это означает, что мы должны быть в состоянии проявлять разную степень контроля в определенных контекстах.
Каждый человек по-своему проявляет эмоции, и способность их выражать сильно различается. Тот, кто прошел через ранние травмы, научившись скрывать свои чувства, часто в какой-то момент даже сам не понимает, какую эмоцию испытывает. Когда эмоциональное выражение человека постоянно заблокировано, это сильно ограничивает его способность вступать в тесный контакт с другими. Общаясь друг с другом, мы ожидаем реакции на лице собеседника в течение миллисекунд. Если этого не происходит, мы чувствуем себя одинокими и испытываем стресс. Контакт воспринимается нами как неприятный, и велика вероятность того, что в дальнейшем мы будем избегать этого человека. Таков механизм формирования социальной изоляции пациентов, которые часто не понимают, как она возникла.
Разумеется, то же самое относится и к людям, которые реагируют неадекватно бурно и импульсивно. Они впадают в ярость из-за пустяков или неправильно оценивают социальные границы и сигналы, постоянно вторгаясь в личное пространство других. С такими людьми мы тоже не слишком желаем устанавливать тесный контакт.
В двух словах: хорошая способность к регулированию позволяет нам реагировать в зависимости от ситуации и адаптировать свое поведение к своим близким и окружающим.
Саморегулированию можно научиться
Многие люди задаются вопросом – можно ли приобрести этот ключевой навык в зрелом возрасте? Ответ: да, но для этого потребуются интенсивная работа и время. Степень нашей способности к саморегуляции и диапазон окна толерантности настолько важны для повседневной жизни и представляют собой такие экзистенциальные части нашей личности, что быстро изменить их невозможно. В течение долгих лет мы изучали глубокие закономерности того, как мы воспринимаем себя и мир. Эти осознания закреплялись годами, обычно даже десятилетиями.
Меня постоянно спрашивают, как оставить старый опыт позади и начать все заново. Человек не компьютер, на который можно установить более современное программное обеспечение и который после перезагрузки работает лучше, чем раньше. Наш мозг функционирует иначе. Благодаря исследованиям мозга мы знаем, что старый опыт стереть нельзя. Первоначальные пути и шаблоны останутся навсегда. Однако мы можем ступить на новые пути и позволить старым со временем «зарасти» – как дорогам, которые больше не используются и которые природа постепенно возвращает себе. Создание новых путей занимает много времени. Они требуют, чтобы их прокладывали и протаптывали, пока они не станут нам полностью знакомыми, а мы не почувствуем себя уверенно.
Мы видели, что происходит, когда способность человека к саморегуляции недостаточно развита и его окно толерантности слишком ограничено. А как выглядит жизнь с хорошей способностью к саморегуляции?
Как уже говорилось, способность к отношениям и способность к установлению связи – одни из основных предпосылок того, что на профессиональном жаргоне называется «достаточно хорошей родительской заботой». В процессе жизни с родителями мы неявно приобретаем эти навыки на всю свою дальнейшую жизнь.
Из этого вытекают и развиваются другие очень важные базовые умения. Все они имеют какое-то отношение к развитию префронтальной коры – области мозга, которая считается местонахождением личности или, точнее говоря, нашей социальной личности. То, насколько зрелой и хорошо развитой является префронтальная кора, тесно связано с социальной поддержкой и регулированием со стороны наших первых опекунов.
Взрослые люди, которые находились в хорошем и безопасном контакте со своими первыми опекунами, воспринимают мир как безопасное место, им нравится в нем жить.
• Они могут исследовать этот мир и наслаждаться возможностями, которые он предлагает.
• Хорошо уравновешенным людям легко жить здесь и сейчас, не отбрасывая свое прошлое и не отрицая последствий действий в будущем.
• Они способны быть счастливыми, а также воспринимать состояния возбуждения как приятные.
• Они умеют успокаиваться после стресса и обращаются за помощью, когда та им необходима.
• Такие люди умеют регулировать возникающий стресс и беспокойство, они гибки в своем поведении и в своих реакциях на требования.
• При этом они чувствуют себя самими собой, умеют сохранять границы ненарушенными и сопереживать себе и своим близким.
Способность к саморегуляции переплетается с нашей способностью к привязанности. Отец теории саморегуляции Алан Шор даже приравнивает ее к теории привязанности. Поэтому удивительно, как мало известно большинству людей и о саморегуляции, и о паттернах привязанности. Мы думаем, что наша жизнь должна быть хорошей. И когда мы влюбляемся и этой любви достаточно, все тоже должно быть прекрасно. Но, к сожалению, это не так. В нашей жизни, и особенно в наших любовных отношениях, действуют две могущественные силы, которые направляют нас, хотя мы этого и не осознаем. Одну из этих сил, саморегуляцию, я представила в предыдущих разделах. Другая – это наши паттерны привязанности.
ПРИВЯЗАННОСТЬ – ЭТО ЖИЗНЬ
Ключевой элемент сбалансированной жизни – полноценные отношения. Долгосрочное исследование Гарвардского университета, посвященное развитию взрослых людей, наблюдало на протяжении более 75 лет жизнь 724 мужчин. Итог: по словам испытуемых, главным критерием успеха и счастья в жизни для них было качество отношений. Важен был не их финансовый успех, внешность или известность, а то, насколько они чувствовали себя частью сообщества, насколько счастливыми были их партнерские отношения и насколько хорошими – дружеские.
Умение общаться – одно из самых важных в жизни. Люди, которые не научились этому, часто бывают разочарованы, одиноки и несчастны. Мы рождаемся существами, способными к отношениям. Иными словами, люди, не умеющие устанавливать отношения во взрослом возрасте, потеряли эту способность из-за своего воспитания. А чтобы дети утратили этот дар, их воспитатели должны совершить очень много ошибок в течение долгого времени.
Способность устанавливать отношения касается не только межличностных и партнерских контактов. Для полноценной жизни нам еще необходимо общаться с самими собой и с окружающим миром. Мне кажется, что этот базовый навык все больше и больше атрофируется. Мы находимся в состоянии войны с собственным телом, с планетой и с окружающими людьми. Многие воспринимают себя отдельными, «иными», или кажутся себе – так же, как и я сама в течение долгих лет – чужими в этом мире.
Одним из моих определяющих переживаний стало долгожданное путешествие. Я исполнила свою детскую мечту – отправилась в Канаду. Мне было 23 года, и я путешествовала с подругой. Мы взяли напрокат каноэ и отправились вплавь по рекам. В детстве у меня был любимый сериал «Человек в горах», и канадская тайга была моей личной Землей Обетованной.
Путешествие стало для меня болезненным пробуждением. По ночам я боялась сильнее, чем вообще могла себе когда-либо представить. До тех пор страх был мне совершенно неизвестен, потому что для меня это было отщепленное чувство (но я тогда этого не знала). Кроме того – и это было еще хуже, – я могла сидеть на берегу прекрасного, кристально чистого озера, покрытого ковром цветущих кувшинок, и не чувствовать ничего. Я была полностью отрезана от имеющегося у меня опыта. Я знала, что, глядя на такие красоты природы в кино или по телевизору, заплакала бы. Вот только теперь я сидела и вообще ничего не чувствовала – словно смотрела на все со стороны, сквозь стеклянную перегородку. Это было ужасно! Это отрезвляло, расстраивало и виделось мне еще одним доказательством того, что со мной что-то не так.
Те переживания были настолько сильны, что не отпускали меня, и я унесла с собой вопрос «почему». Что со мной было не так? Почему я чувствовала себя вне красоты мира, лежащего перед моими глазами? Теперь я могу ответить на этот вопрос и вижу, как много людей чувствуют то же самое, что и я тогда, и насколько нормально сейчас погружаться в виртуальные миры глубже, чем в реальный мир.
Надежная привязанность и ощущение себя желанным и защищенным в лоне общества – вот что определяет нашу жизнь. Это дает нам возможность чувствовать свою сопричастность, ощущать принадлежность. Устойчивые привязанности в детстве, с чем сейчас согласны все гуманитарные науки, составляют один из краеугольных камней нашего психического здоровья. Но это не все – я считаю, что они еще являются основой человеческого сообщества. Общество, в котором все больше и больше людей не чувствуют свою принадлежность, неизбежно должно демонстрировать признаки распада и сталкиваться со все большим и большим количеством проблем.
Как строить межличностные отношения, чего от них ожидать и как реагировать на конфликты – всему этому мы учимся, как говорилось ранее, в основном на примерах того, как наши родители (или опекуны) относятся к нам, и в меньшей степени – того, как они относятся друг к другу. Особенно явно наши паттерны привязанности проявляются в любовных отношениях. Я всегда говорю: «Друзья считают нас нормальными, но наши партнеры знают лучше».
Паттерны привязанности возникают двумя способами:
1) посредством неявного обучения (бессознательного);
2) через явное обучение (то есть через сознательное восприятие информации).
В процессе бессознательного неявного обучения ребенок приобретает способность или формирует воспоминание. Однако его нельзя описать или назвать, то есть невозможно перечислить последовательность действий. Воспоминания также не находятся в описательном временном контексте и поэтому не поддаются конкретизации. Например, езда на велосипеде или завязывание шнурков – и то, и другое представляет собой опыт обучения, который вряд ли кто-то сможет объяснить более подробно.
Неявное обучение начинается еще в материнской утробе. Уже там мы формируем воспоминания и находимся под влиянием эмоциональных состояний матери. Мы слышим звук ее голоса, слышим, как родители разговаривают друг с другом. Мы переживаем каждый эмоциональный порыв своей матери, и каждое из этих переживаний накладывает на нас отпечаток еще до того, как мы появляемся на свет.
Паттерн любви8
В 1950-х годах психологи и другие исследователи предполагали, что младенцам после рождения нужен только физический уход. Они считали, что не имеет значения, находятся дети в контакте со своими матерями или нет. Кормление предлагалось осуществлять строго по расписанию, каждые три-четыре часа. Кроме того, считалось, что у младенцев нет эмоций и отсутствует база для воспоминаний – якобы они начинают формироваться только вместе со способностью говорить. Словом, еще не так давно младенцев рассматривали как пассивных получателей действий, которые выполняет лицо, осуществляющее уход. То, что они являются самостоятельными личностями с чувствами и потребностями, отрицалось. Об этом свидетельствует то, что вплоть до 1970-х годов в некоторых медицинских учреждениях младенцев оперировали без анестезии, так как они якобы ничего не чувствуют.
Следовательно, никто не усматривал проблемы в том, чтобы забирать младенцев у матерей сразу после рождения или разлучать их с родителями на несколько дней или даже недель во время пребывания в больнице. Германия до сих пор испытывает на себе воздействие книги времен национал-социализма, которая прямо пропагандирует разрыв детско-родительской связи и проповедует матерям, что они не должны «изнеживать» ребенка. Эта книга, «Немецкая мать и ее первый ребенок», продавалась в стране до конца 1970-х годов. Она оказала огромное влияние на воспитание в Германии и по сей день является причиной множества травм развития.
В такой обстановке Гарри Харлоу начал в 1957 году в США эксперименты с детенышами макак-резусов. Он хотел выяснить, как они реагируют на разлуку со своими матерями и действительно ли в раннем детстве имеет значение только достаточная забота о физическом состоянии. Для этого группа детенышей обезьян сразу после рождения была изъята у матерей и помещена в вольер, где они могли выбирать между «проволочной матерью» – фигурой из проволоки с бутылкой молока – и похожей фигурой из проволоки, только покрытой мехом и с лицом, но без молока. Харлоу заметил, что детеныши обезьян почти всегда находились с «меховой матерью» и ненадолго переходили к «проволочной», только когда были голодны. Другая экспериментальная группа не имела доступа ни к социальным взаимодействиям, ни к «меховой матери», контакт был только с «проволочной матерью». У этих детенышей обезьян уже через короткое время проявились серьезные поведенческие проблемы, они неподвижно сидели в углу и почти не реагировали на внешние раздражители. Став взрослыми, все обезьяны, участвовавшие в эксперименте, продемонстрировали явные поведенческие отклонения, а кроме того, были неспособны воспитывать собственных детенышей.
Дальнейшие эксперименты подтвердили, что в детстве, очевидно, важно и нечто помимо удовлетворения физических потребностей, а именно – привязанность и защищенность.
Официально основоположником исследований привязанности считается Джон Боулби, который впервые изучил связь человеческого младенца со значимыми взрослыми. В 1958 году он впервые изложил свои соображения о генетически заложенной системе привязанности, необходимой для развития эмоциональных отношений, в своей книге «Природа связи ребенка с матерью»9, считая, что эта система отвечает за развитие эмоциональных связей между матерью и ребенком.
В нашем контексте привязанность относится к врожденному рефлексу живых существ привязываться к опекуну и искать у него защиты в случае опасности. Старшее поколение моих читателей вспомнит еще Конрада Лоренца и его гусей. В ходе своих экспериментов австрийский зоолог и медик установил, что гуси привязываются к первому живому существу, которое видят после вылупления. Если это человек, то они следуют за ним повсюду.
Поведение человека, связанное с привязанностью или просто с отношениями, тоже активируется при возникновении желания близости или в «тревожных ситуациях». Под этим понимается то, что при стрессе люди стремятся быть ближе к знакомым людям, чтобы найти защиту. Для младенцев и детей такая стрессовая ситуация может возникнуть, когда опекун недоступен, а также в случае недомогания, боли или страха.
Как это ни парадоксально, отказы усиливают стремление к привязанности. Чем более пренебрежительны родители, тем больше дети ищут их близости. Часто это проявляется в чрезмерной лояльности по отношению к отвергающим или даже жестоким родителям. Более того, даже став взрослыми, такие люди продолжают искать одобрения и любви своих родителей даже до глубокой старости. Неудовлетворенные желания связывают нас гораздо больше, чем исполненные.
К сожалению, негативные переживания относительно привязанности влияют еще на то, что пациенты не могут принять или оценить любовь, которую позже проявят по отношению к ним другие. Часто они повторяют (неосознанно) с близкими им людьми то, что сами узнали от своих родителей. Они делают так, чтобы любимые люди чувствовали то же самое, что чувствовали они, когда были детьми. В этом состоит большая трагедия многих партнерских отношений.
Правильно было бы спросить наших партнеров, как они к нам относятся.
«Как тебе живется рядом со мной?»
«Насколько ты чувствуешь себя безопасно и ощущаешь привязанность? Как, по твоему мнению, тебя видят и оценивают?»
Таким способом можно выявить и понять старые паттерны и в первую очередь распознать связанную с ними расщепленную боль.
Скрытые модели
В исследованиях привязанности опыт, который приобретается в ранние годы жизни и затем постепенно превращается в паттерны, принято называть внутренними рабочими моделями. Модели ранних переживаний привязанности закладывают основу того, какие ожидания мы будем возлагать на отношения в дальнейшей жизни и как мы будем с ними справляться. Отдельный опыт, который обретает ребенок, со временем складывается в паттерны, фиксируемые в мозге в виде моделей. Ребенок, а затем и взрослый человек в будущем будет опираться на него в любых межличностных отношениях и изменять свое поведение в соответствии с ним. Для малыша сохранение отношений со своими опекунами жизненно важно – от этого буквально зависит его выживание, – и поэтому он готов пойти на многие жертвы ради этого. Он «знает», что умрет без опекуна, и поэтому пытается сделать своих родителей «счастливыми» или даже регулировать их состояние.
Из-за так называемой детской амнезии, которая длится примерно до трех лет, в раннем детстве мы формируем исключительно неявные, то есть неосознанные воспоминания. Исследователи говорят о репрезентациях, которые мы разрабатываем и которые затем формируют нашу картину мира. Эти внутренние репрезентации настолько сильны, что остаются постоянными, даже когда у нас позже появляется новый опыт.
Эти паттерны репрезентации включают в себя то, чего мы можем ожидать от мира. Они влияют на наше представление о межличностных взаимодействиях и отношениях. И, конечно же, они сказываются на нашем представлении о самих себе. Как работает общение, мы узнаем еще до того, как произносим первое слово. А став взрослыми, будем обходиться со своими потребностями в основном так, как научились до четвертого года жизни.
Таким же образом мы учимся определенному поведению в отношениях. Сегодня известно, что младенцы очень активно участвуют в отношениях со своими значимыми взрослыми. Малыш быстро узнает, как действует его опекун и какой тип отношений он строит – или не строит – по отношению к ребенку. Можно сказать, что ребенок приспосабливается к родительской модели взаимоотношений.
Darmowy fragment się skończył.