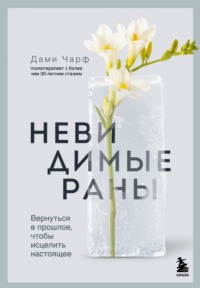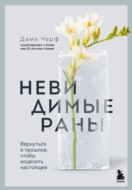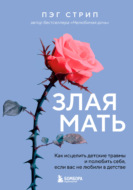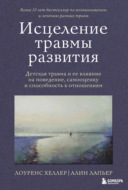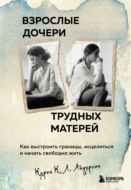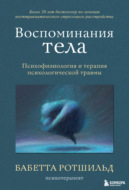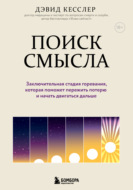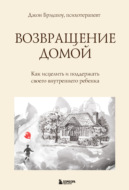Czytaj książkę: «Невидимые раны. Вернуться в прошлое, чтобы исцелить настоящее», strona 2
Нарушения сна и беспокойство. Организм, который постоянно живет в ожидании опасности, естественно, испытывает трудности с отдыхом, расслаблением или даже засыпанием. Я часто спрашиваю новых клиентов, как бы они себя чувствовали, если бы просто сели на диван и ничего не делали. Большинство из них не могут даже представить, что они ничем не занимаются. В тот момент, когда внешне они успокаиваются, их охватывает внутреннее беспокойство, которое нередко вызывает и всплески неприятных ощущений. Вот почему гораздо легче оставаться активным и двигаться. Благодаря этому некоторые люди становятся очень успешными – наше общество вознаграждает трудоголиков карьерой, деньгами и статусом.
Страх и паника. Многие терапевты, работающие с травмой, рассматривают тревогу и панические атаки как одни из симптомов зияющей раны. Мы можем объяснить приступы паники, помня, что слишком высокий уровень внутренней энергии человека может привести к тому, что он будет постоянно находиться в состоянии перевозбуждения. Это перевозбуждение обычно проявляется в сильном мышечном напряжении, плохой концентрации внимания и стремлении действовать.
Когда индивидуальные «очки» постоянно настроены на обнаружение опасностей, а очень высокая энергия интерпретируется как страх, мозг ищет причину этого страха. Эволюционно мы, к сожалению, привыкли всегда искать триггеры страха в окружающей среде. Проще говоря, приступы паники – это моменты, когда внутреннее состояние перевозбуждения становится невыносимым и внутри все начинает кипеть, как паровой котел. Всплеск этого и без того бурлящего состояния может быть вызван практически чем угодно. После панической атаки наступает кратковременное расслабление, пока снова не будет достигнут прежний уровень перевозбуждения и все не начнется сначала.
У большинства пациентов развивается привычка к пристальному самоанализу. Собственные чувства разбираются все более подробно, и, таким образом, ситуация развивается сама собой: человек воспринимает напряжение и интерпретирует его как страх. Он хочет контролировать это чувство, понимает, что неспособен на это, страх растет, и так продолжается шаг за шагом – словно лавина, которая медленно приходит в движение.
Ярость. Некоторые люди не чувствуют страха, но из-за этого легко впадают в ярость. Обычно окружающие с трудом их выносят, кроме того, они непредсказуемы в общении. Вспышка ярости развивается аналогично приступам паники, но внутреннее перевозбуждение интерпретируется иначе: человек реагирует на все внешние раздражители с гневом, потому что чувствует, будто на него нападают.
Улучшение этих симптомов может наступить только тогда, когда человек начнет ощущать и воспринимать свое внутреннее беспокойство, не разбирая его. Он или она учится воспринимать беспокойство чисто физиологически, как телесное ощущение, и не связывать его с чувствами.
Вспыльчивость, пугливость и гиперактивность. Эти симптомы также могут указывать на пережитые травмирующие события. Некоторым людям чрезвычайно трудно сосредоточиться. Их внутреннее беспокойство настолько велико, что они не могут долго оставаться на одном месте. Например, некоторым моим клиентам стоит больших трудов прочитать книгу.
Недостаточное возбуждение, коллапс и депрессия. Состояние перевозбуждения чрезвычайно утомительно. Через некоторое время тело само по себе включает систему предохранителей. Предохранители перегорают, и человек оказывается в противоположной фазе качелей – в состоянии недостаточного возбуждения или коллапса, чувствуя себя совершенно опустошенным.
Многие люди ощущают такое состояние спада после работы. Удивительно, но его часто путают с расслаблением. При этом реальное расслабление – это приятное физическое состояние, при котором мышечный тонус ослабевает, человек внутренне «сдувается», но при этом чувствует свое присутствие в моменте.
В случае со многими моими клиентами, у которых врачи диагностировали депрессию или даже биполярное расстройство, то есть маниакально-депрессивное заболевание, выяснялось, что за этим стояли травмирующие события, которые не были проработаны и интегрированы. Пациенты в состоянии недостатка возбуждения или упадка сил часто испытывают ощущение полной бессмысленности, оторванности от других людей, эмоциональную глухоту или непостижимую боль, не имеющую ничего общего с их нынешней жизнью. Все это сопровождается глубоким истощением, возникающим в результате постоянного перевозбуждения, которое в какой-то момент истощает энергетические запасы человека.
Чередование повышенного и пониженного возбуждения может происходить как с длительными интервалами, так и с очень короткими. Некоторые люди весьма эффективны в своей профессии, в то время как вечером, в личной жизни, бестолковы и бесполезны. Другие в течение дня словно витают в облаках, не вовлекаясь эмоционально в то, что происходит вокруг, но по ночам не могут уснуть из-за внутреннего беспокойства.
При всех этих состояниях мы склонны к самолечению. Мы прибегаем к искусственным седативным средствам, чтобы не испытывать определенных ощущений: алкоголь, еда, компьютер, просмотр телевизора и курение, – пожалуй, одни из наиболее распространенных способов перестать чувствовать внутреннюю тревогу или, по крайней мере, лучше ее переносить.
Чем дольше нервная система остается в таком нерегулируемом состоянии, тем более истощенным чувствует себя пациент. Ни одна система не может оставаться в состоянии возбуждения в течение длительного времени, равно как и постоянное переключение между крайностями – перевозбуждением и недостаточным возбуждением – не остается без последствий. Что будет, если сесть в «Порше» и нажать одновременно на педали газа и тормоза? Результатом станет просто чрезмерно высокий расход бензина и износ двигателя и других систем – при этом вы так никуда и не доберетесь.
При стрессе печень задействует все свои резервы, чтобы обеспечить достаточное количество энергии. Однако, если это происходит постоянно, в какой-то момент она истощается полностью. То же самое относится и к надпочечникам, которым слишком часто приходится вырабатывать адреналин. Это вызывает и перенапряжение почек, приводящее к состоянию хронического истощения, при котором необходимая энергия фатально обеспечивается только еще большим количеством адреналина. В настоящее время это состояние называется в медицинских терминах хроническим истощением или выгоранием.
Все описанные физические и эмоциональные аспекты могут указывать на травму. Однако в этом нет необходимости – терапевтическая психология точной наукой не является. Хотя если кто-то испытывает эмоциональный стресс, больше не может игнорировать ситуацию, испытывает проблемы с доверием и постоянно находится в напряжении, то, наверное, это хороший момент, чтобы изучить происходящее поближе. Потому что, если мы будем оставаться в функциональном режиме слишком долго, в какой-то момент мы почувствуем себя истощенными, выгоревшими и безрадостными.
САМОРЕГУЛЯЦИЯ – НАШ ЖИЗНЕННЫЙ ТЕРМОМЕТР
Когда люди страдают больше, чем могут вынести, они ищут решение. Они жаждут, чтобы их буквально избавили от страданий и, соответственно, симптомов. Размышления о симптомах и категоризации болезней часто направляют нас на ложный путь – мы ищем решение, которое устранит симптом. Вот только наша психика не функционирует по принципу причины и следствия. Мы должны начать с понимания себя как многоуровневой системы.
Современная медицина нередко действует так, будто у пациента в ботинке находится камешек, который причиняет ему боль. Так что пациенту дают обезболивающие. А если он больше не чувствует боли, устранена ли причина? Разумеется, нет – и все же образ мыслей, на котором основан этот подход, очень привлекателен.
В психотерапии происходит нечто подобное. Терапевты уделяют особое внимание симптомам и проблемам, с которыми сталкивается клиент. В зависимости от формы терапии делается попытка смягчить симптом – а чаще всего несколько симптомов – путем исследования и выявления причины. Таким образом, проявления переживаний должны исчезнуть благодаря познанию. Другой способ заключается в изменении моделей поведения клиентов, чтобы признаки травмы больше не возникали, или в назначении лекарств, которые устраняют или смягчают симптомы.
Я думаю, что эти подходы проистекают из нашего стремления к линейности и логике. Но нередко, впрочем, и из бессилия, которое мы в конечном счете испытываем, сталкиваясь со сложностью человеческого существа.
Беттина Шретер, один из моих первых наставников, однажды сказала: «Мы можем работать с неврозами всю жизнь. Они похожи на гидру – как только мы разберемся с одной головой, сразу же показывается следующая». По какой-то причине эта фраза особенно тронула меня, и я стала ее использовать, хотя в то время совсем ее не понимала. И все же я чувствовала: в этом и заключается правда.
Самый важный термин, на который я наткнулась в своей научной экспедиции по изучению сути наших страданий во время повышения квалификации, – саморегуляция. Впервые я услышала о ней от коллеги Йоханнеса Б. Шмидта, и это слово произвело на меня такой же эффект, как и много лет назад фраза Беттины. Саморегуляция – это звучало правдиво. Внезапно все кусочки пазла, полученные на основании моего опыта наблюдения за собой и клиентами, заняли другие, более правильные места. Изучение сознательных и бессознательных психических процессов саморегуляции позволило ответить на важный вопрос: почему многие люди знают и понимают о себе практически все и все-таки не могут жить счастливо? И почему зачастую они даже чувствуют, что после многих лет терапевтической работы почти ничего не изменилось.
Так что же такое саморегуляция?
Если коротко, она охватывает следующие возможности:
• способность успокаивать себя в случае эмоционального потрясения;
• способность восстанавливаться и расслабляться;
• умение направлять и удерживать внимание;
• способность чувствовать, контролировать и при необходимости сбрасывать импульсы;
• навык справляться с разочарованиями;
• умение реализовывать намерения и преследовать цели;
• способность испытывать радость и желание исследовать мир;
• способность делать паузу между стимулом и реакцией.
Люди зависят от навыка регулировать свое внутреннее состояние в течение дня, чтобы продолжать чувствовать себя хорошо. Жизнь постоянно ставит перед нами задачи и требует, чтобы мы непрестанно приспосабливались к ситуациям, общались с другими людьми, были трудоспособны и вели себя социально адекватно. При этом я очень четко различаю ощущение бодрости и «функциональный режим». Многие люди проводят повседневную жизнь в функциональном режиме, в котором по-прежнему отвечают всем социальным требованиям, однако едва ощущают самих себя и уж тем более не наслаждаются собственной жизнью.
Чтобы соответствовать требованиям нашей жизни, мы сознательно или бессознательно прибегаем к ресурсам – функциональным и дисфункциональным. Под ресурсами я подразумеваю вещи, которые помогают нам отвлечься, успокоиться, привести себя в порядок в повседневной жизни или каким-либо другим способом улучшить наше настроение.
Функциональные ресурсы. Это занятия, которые действительно приносят нам пользу. Сюда относятся прогулки, медитации, приятные разговоры, общение, отдых или хобби.
Дисфункциональные ресурсы. Так же часто, как и вышеназванные, большинство людей использует те ресурсы, которые, хотя и приятны по ощущениям, но не обязательно хороши. К ним относятся курение, употребление алкоголя, прием пищи, сидение перед телевизором или компьютером, походы по магазинам и т. д.
Насколько быстро человек использует ресурсы и сколько счастья и стресса он или она может допустить, зависит от способности к саморегуляции. Именно она является той решающей способностью, которая делает нашу жизнь красивой или утомительной. Она – тот самый глубокий океан, в котором протекает наша жизнь, все ее подводные течения. Симптомы или диагнозы – это всего лишь то, что проявляется на поверхности. Независимо от того, со сколькими из них мы работаем, пока мы не изменим само течение, наша жизнь принципиально не улучшится.
Вопрос нервов
Рассмотрим подробнее, что такое саморегуляция и как она создается. Для этого мы должны погрузиться в мир тела и нервной системы. В повседневной жизни большинство наших действий контролируется старшими отделами мозга и вегетативной нервной системой, а также эндокринной системой3. При этом вегетативная нервная система отвечает за управление и модуляцию нашего возбуждения, то есть как за наше бодрствование, так и за расслабление. Другое ее название – автономная нервная система, потому что мы не можем повлиять на ее работу напрямую по своей воле.
Два отдела вегетативной нервной системы (ВНС) называются симпатической и парасимпатической нервными системами. Симпатическая нервная система отвечает за возбуждение, а парасимпатическая, которая в основном представлена блуждающим нервом, – за расслабление и спокойствие. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы контролируют и регулируют практически все органы. Если бы мы составили карту всех нервов обеих частей ВНС, они со значительной точностью показали бы контур нашего тела. Если говорить упрощенно, симпатическая и парасимпатическая системы – это две противоборствующие стороны, которые контролируют друг друга и управляют циклами активности и расслабления в организме. Если одна из них более активна, то другая неактивна (это схематичное представление). Для нашего благополучия одинаково важны обе.
Адекватно иннервированный (активированный) симпатический отдел нервной системы обеспечивает:
• приятное возбуждение;
• любопытство;
• радость;
• бдительность;
• потенциал действия.
Его противоположность, парасимпатическая система, обеспечивает:
• приятное расслабление;
• сон, восстанавливающий силы;
• медитативный покой;
• чувство связи.
Здоровая вегетативная нервная система характеризуется прежде всего гибкостью. Она способна колебаться в обоих направлениях и приспосабливаться к конкретным условиям. Диапазон колебаний ВНС, то есть ее возможность колебаться, у каждого человека индивидуальна. Насколько широким будет этот диапазон в значительной степени зависит от того, как протекали роды и раннее детство.
Окно толерантности – рамки нашей жизни
Представим себе оконную раму, внутри которой наше возбуждение иногда слабо, а порой бурно раскачивается взад и вперед, но при этом не покидает пределов рамы. Это называется окном толерантности.
Люди с широким окном толерантности могут позволить себе больше ощущений, то есть возбуждения, не испытывая стресса. Они могут более остро ощущать счастье, а также быть гораздо устойчивее по отношению к стрессу, чем люди с узким окном толерантности. Последние очень быстро достигают своих пределов в буквальном смысле этого слова.
Все мы чувствуем себя лучше всего, когда функционируем в рамках нашего окна толерантности, и стремимся к этому состоянию. В то же время это означает, что мы должны постоянно регулировать себя, чтобы оставаться в рамках этого окна. Идеальное условие для этого – постоянно ощущать и поддерживать контакт с нашим телом, нашими чувствами и потребностями. Тогда мы смогли бы немедленно устранить внутреннюю дисрегуляцию, чтобы «не выпадать из рамы».
«Здоровая», адаптивная нервная система выглядит примерно так, как показано на рис. 1.

Колебания различаются по амплитуде и интенсивности, но совершаются всегда в пределах рамы. В течение напряженного дня колебания больше происходят в верхнем диапазоне. В другой день, проведенный на диване, колебания будут больше держаться у нижней границы, без каких-либо серьезных всплесков вверх. Однако самое главное – это наше индивидуальное ограничение колебаний вверх и вниз. Оно определяет, какой уровень возбуждения и расслабления для нас возможен. Это устанавливается уже обстоятельствами нашего рождения и первыми жизненными переживаниями. Потенциальная амплитуда вибрации определяет, сколько ощущений и эмоций человек может удержать в себе – как приятных, так и неприятных. У людей с очень узким окном толерантности мало возможностей быть счастливыми (ведь счастье – это сильное возбуждение), и они, вероятно, предпочтут избегать ситуаций, связанных с сильными эмоциями. В то же время эти люди зачастую не могут и глубоко расслабиться, поскольку и это перегружает их организм.
Травмы развития являются факторами, препятствующими созданию способной к колебаниям, гибкой и адаптивной нервной системы.
Если происходит что-то, что лишает человека способности справляться с ситуацией, когда его так называемые копинг-стратегии оказываются перегружены, амплитуда изменяется и колебания симпатической нервной системы начинают выходить вверх, за пределы допустимого диапазона. За этим следует чрезмерная парасимпатическая реакция, и амплитуда переходит также нижнюю границу – к диссоциации или оцепенению.
Если подобное состояние повторяется, это приводит к нарушению регуляции нервной системы и к частым выходам амплитуды колебаний за рамки окна толерантности. Появляющиеся при этом как на физическом, так и на психическом уровне симптомы часто бывают совершенно непонятны пациентам.
Нервную систему, вышедшую из-под контроля, можно представить примерно как на рис. 2.
К сожалению, люди, у которых уже нарушена работа нервной системы в результате шоковой травмы, ранних травм, травм привязанности и травм развития и у которых очень узкое окно толерантности, крайне подвержены дальнейшим шоковым переживаниям и стрессу.
Симптомы и расстройства – это внешнее проявление фундаментальной дисрегуляции в системе «человек».
Последствия травмы, тревожные расстройства, депрессия, боль и большинство других расстройств и симптомов сигнализируют о нарушении саморегуляции. Вместо того чтобы рассуждать в терминах симптомов и диагнозов, мы должны говорить о регуляции и дисрегуляции.

При дисрегуляции весь континуум нашего внутреннего мира находится в состоянии хаоса. Жизнь ощущается как постоянная борьба без возможности победить. День за днем мы сосредоточены на борьбе со страхом, болью или депрессией, а также на том, чтобы функционировать должным образом. Нарушение регуляции может привести к состояниям, при которых люди добровольно ложатся на лечение в психиатрический стационар, потому что больше не могут выносить самих себя.
Окно толерантности может быть расширено в двух направлениях: вверх и вниз. Некоторые люди в повседневной жизни по большей части испытывают перевозбуждение, в то время как другие, как правило, находятся в более пассивном состоянии. Однако у всех случаются изменения, которые воспринимаются как очень утомительные.
Слишком высоко
Биологически колебание вверх контролируется симпатической нервной системой и обеспечивает мобилизацию, перерастающую затем в борьбу или бегство. В ответ на опасность в организме активизируются стрессовые системы, запускающие гормональные изменения. Если же эти системы реагирования остаются заведенными без наличия опасности, нарушение регуляции становится хроническим. Со временем организм уже с трудом справляется с постоянной тревогой, и появляются симптомы и поведение, характерные для того состояния, когда симпатикотоническая система человека активна практически все время.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это только верхушка айсберга. Большинство людей, испытывающих страдания от жизни, не проявляют или проявляют мало признаков полностью сформировавшегося ПТСР, несмотря на травматический опыт, а потому эти симптомы часто остаются незамеченными при диагностике. Именно ранние травмы, травмы развития и травмы привязанности приводят к сильному нарушению регуляции, но все еще учитываются слишком редко.
Вот те признаки, на которые я обращаю внимание при знакомстве с пациентами.
Сколько времени он/она тратит на работу?
Насколько хорошо он/она может сосредоточиться, например почитать книгу в тишине или полностью посвятить себя какой-либо деятельности?
Насколько он/она уравновешен/а – бывают ли у него/нее резкие перепады настроения или даже истерики?
Насколько сильно он/она напуган/а?
Может ли он/она планировать будущее и оценивать то, что делает сегодня, с точки зрения влияния этих действий на будущее?
Насколько он/она подвержен/а беспокойству и насколько сильный стресс испытывает?
Может ли он/она просто ничего не делать или ему/ей всегда нужно быть в движении?
Насколько он/она подвержен/а непостоянству в своих чувствах, мыслях и действиях?
Насколько хорошо он/она чувствует себя в собственном теле?
Может ли он/она доверять другим людям?
Как обстоят дела с преданностью, отпусканием и расслаблением?
Может ли он/она позволить себе настоящую близость или уклоняется от этого?
Слишком низко
Если люди выходят за рамки окна толерантности вниз, то это связано с перевозбуждением парасимпатической системы. Это тоже нарушение регуляции. Нормальную степень активности парасимпатической системы можно распознать, прежде всего, по следующим физическим признакам4:
• замедленное глубокое дыхание;
• медленное сердцебиение;
• гипотония;
• нормальный цвет кожи, кожа кажется сухой на ощупь;
• низкий мышечный тонус;
• повышенная пищеварительная активность.
Обычно мы воспринимаем эти состояния как позитивные и приятные и чувствуем себя расслабленными. Однако если парасимпатическая система постоянно гиперактивна, расслабление превращается в упадок сил, а спокойствие – в депрессию. Это влечет за собой определенные формы поведения и психологические состояния, которые также оказывают сильное влияние на повседневную жизнь.
В связи с этим я задаю себе следующие вопросы.
Чувствует ли пациент себя на своем месте?
Сколько у него/нее энергии?
Чувствует ли он/она, что отделен от других людей как бы стеклянной перегородкой?
Склонен ли он/она к депрессии?
Испытывает ли он/она хроническую усталость?
Часто ли он/она чувствует свое одиночество, даже когда рядом есть другие?
Часто ли он/она чувствует себя словно парализованным?
Склонен ли он/она замирать в состоянии стресса, конфликта, чрезмерной близости или высоких требований?
Он/она с трудом говорит «нет» и не имеет ощущения собственного пространства?
Парасимпатическая гиперреакция – самая древняя наша реакция на опасность, и по возможности организм старается ее избегать. Если же эта реакция все-таки произошла, вероятность того, что симптомы появятся позже, очень высока.
Такого реагирования организм старается избегать как можно дольше, потому что оно обходится ему дороже всего. Среди мелких живых существ при срабатывании рефлекса мнимой смерти определенный процент даже умирает по-настоящему. Парасимпатическая система реагирует в этом случае настолько сильно и организм отключается до такой степени, что органы перестают снабжаться и активироваться, и животное умирает. У людей мы встречаем эту реакцию, например, при полиорганной недостаточности после шока, а также когда человек уходит на пенсию после очень напряженной профессиональной жизни. Реакцией на неожиданное спокойствие нередко становится смерть от внезапной остановки сердца. В мягкой форме это, пожалуй, знакомо нам всем – например, когда мы уезжаем в отпуск и тут же цепляем простуду или страдаем мигренью по выходным. Наличие чего-то подобного указывает на дисбаланс вегетативной нервной системы, который сохраняется в течение длительного времени.
Искусство переключений
В наше время многие люди привыкли игнорировать свое тело и его реакции или же просто не научились переключаться. Вся их жизнь проходит в верхней части окна толерантности, поэтому они больше не могут заниматься какой-либо деятельностью в нерабочее время. Поэтому так важно выявлять и создавать моменты переключения в повседневной жизни. Это могут быть такие банальные изменения, как переход от работы к отдыху или от времяпрепровождения вдвоем к одиночеству. Любой, у кого есть опыт участия в интенсивных групповых занятиях, знает, как трудно потом бывает вернуться в повседневную жизнь и переключиться. Многие люди в такой ситуации срываются, они чувствуют, будто проваливаются в яму, и испытывают неприятное «послевкусие» приятных выходных.
Особенно это касается людей с недостаточно развитой способностью к саморегуляции. Можно даже сказать, что в их случае нервная система в принципе разучилась колебаться. Вместо того чтобы гибко приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, пациенты либо находятся в состоянии перевозбуждения, либо испытывают недостаток возбуждения. То есть люди травмированные, в том числе и ранними травмами, редко находятся в границах своего окна толерантности. Некоторым это кажется даже скучным – они так привыкли к высокому уровню деятельности своей нервной системы, что путают гиперактивность и драматичность с живостью.
Тогда тишина и спокойствие воспринимаются почти как угроза. Мозг становится зависимым от гормонов стресса и эндорфинов. Любое сильное симпатическое возбуждение, приводящее к выбросу адреналина, высвобождает в организм и эндорфины. Эндорфины – это вещества, присущие организму, своего рода биологические обезболивающие. Они столь же эффективны и вызывают такое же привыкание, что и синтетические вещества. Исследования показывают, что люди могут стать зависимыми от высокой эмоциональности и драматизма. Требуются время и терпение, чтобы отучиться от этой ложной живости.
Существует предположение, что мозг людей, выросших в травмирующей или стрессовой среде, зависим и жаждет дозы эндорфинов снова и снова. Постоянное выделение этих гормонов вызывает привыкание, которого больные, конечно, не осознают, но которое тем не менее влияет на их образ жизни. Эта «зависимость от драмы» может сочетаться со склонностью идентифицировать себя с той частью собственной личности, которая кажется способной на сильные чувства или просто очень импульсивной и страстной. Чем больше человек воспринимает это как часть своего образа и своей личности, тем труднее ему дается переключение, поскольку мы всегда хотим действовать в соответствии с идентичностью, то есть согласно нашим представлениям о себе.
Саморегуляция через контакт
Всем нам важно научиться рассматривать людей как открытые системы. Такого рода системы постоянно зависят от внешней информации и обратной связи. Они не замкнуты исключительно на себе и не способны быть полностью самостоятельными, то есть существовать абсолютно автономно. И все же наше общество одержимо независимостью, индивидуализмом и самореализацией. Высшая цель – уметь справляться в одиночку и ни в ком не нуждаться. (Что интересно, в племенных обществах, живущих в согласии с самими собой и Землей, мы находим противоположный подход.)
Люди рождены для резонанса и отношений. Резонанс возникает всякий раз, когда мы чувствуем, что нас видят и воспринимают. Исследование привязанности определяет систему привязанности как врожденную. Все мы приходим в этот мир с вопросом: «Где ты?» И если на него не отвечают с любовью и восторгом, это наносит ущерб нашей душе. В настоящее время исследования показывают, что мозг наиболее «счастлив», когда он вовлечен в социальную жизнь, и что сердцебиение, характер дыхания и даже наши мозговые волны меняются, когда мы находимся в тесном контакте с другим человеком. Мы входим с ним в резонанс, и обе наши системы настраиваются друг на друга. Если младенцами мы не испытали такого резонанса и нежного обращения, это приводит либо к развитию зависимого типа привязанности, либо к переходу от привязанности к фиктивной автономии. В обоих случаях люди живут с нарушением регуляции, которое они обычно едва могут контролировать в повседневной жизни, зачастую ценой физической боли или ощущения, что, в сущности, они не живут и не наслаждаются жизнью.
Все начинается с совместного регулирования
Саморегулированию мы учимся в основном в первые три года нашей жизни. Пренатальный опыт и процесс родов так же важны, как и безопасность привязанности и любовь, которую мы испытываем, будучи детьми. Младенцы рождаются с не полностью сформированной нервной системой. Они нуждаются в защите и поддержке со стороны «внешней матки», то есть семьи или самых близких людей. Поскольку у них еще нет навыков саморегуляции, младенцы могут удерживать свое повышение тонуса, свой уровень возбуждения только в пределах окна толерантности, когда получают обратную связь извне. Дети зависят от того, что основной воспитатель принимает участие в их регулировке. При этом постоянство или непостоянство отношений с этим основным воспитателем в значительной степени влияет на то, как ребенок развивается и сможет ли он в дальнейшем справляться со стрессом, адекватно регулировать возбуждение и строить здоровые отношения.
Поскольку нервная система младенца еще не полностью сформирована, он не умеет успокаиваться, когда взволнован. Он не может просто перестать кричать. Если ребенок в беде, значит, он в беде. Ему нужен кто-то, кто возьмет его на руки и полностью посвятит себя ему, чтобы малыш снова мог успокоиться. Оставлять ребенка постоянно кричать – жестоко, потому что в этом случае он не остановится, пока не выбьется из сил настолько, что не сможет дальше кричать.
Термин «сорегулирование» звучит очень по-деловому, но подразумевает глубокую внутреннюю настройку основного воспитателя на ребенка. Только полное проявление любви со стороны родителей, которые настраиваются на ощущения своего ребенка и дают ему понять, что они находятся рядом и воспринимают его боль – и принимают ее всерьез, – делает возможным совместное регулирование. Когда родители отвлекаются, раздражаются или злятся, это удается редко. Ребенок ощущает негативные чувства основного воспитателя и волнуется еще больше. Младенцы впитывают, словно губка, все чувства окружающих людей и ощущают их в себе.
Даже после рождения, в первые годы жизни, ребенок остается, так сказать, частью нервной системы матери. Это позволяет ей с большой точностью воспринимать его настроение и вести себя соответственно. Связь эта существует и в обратном направлении: ребенок тонко улавливает настроение матери и реагирует на него. Это нередко приводит к тому, что негативные спирали закручиваются все туже и туже, что крайне утомительно и неудовлетворительно для всех участников. Когда опекун чувствует себя подавленным и на его лице отражаются гнев, стресс или страх, ребенок делает из этого вывод, что, должно быть, причина этого стресса – он сам: в его мире нет никого другого.
Так может начаться передача травм из поколения в поколение. У травмированных людей, еле-еле сумевших интегрировать собственную прошлую историю в свою биографию и, возможно, испытывающих большие проблемы с регуляцией, появляется ребенок, который реагирует на нарушение регуляции и беспокойство, воспринимаемые от обоих родителей или от одного из них, со всей своей способностью впитывать эмоции. Родители замечают, насколько напряжен их ребенок, и сами становятся еще более напряженными. В худшем случаем им так и не удается утешить малыша, они смиряются с ситуацией и остаются разочарованными. У ребенка, в свою очередь, возникает ощущение, что с ним что-то не так. К сожалению, в нашем обществе все еще считается крайне постыдным обращаться в такой ситуации за помощью и поддержкой, и, кроме того, процесс этот сопряжен со многими сложностями. Это заставляет тех, кто нуждается в помощи, чувствовать свою несостоятельность и неумение справляться с собственной жизнью. Особенно это касается общения с детьми – многие родители считают, что должны «естественным образом» уметь воспитывать, и им слишком стыдно обращаться за поддержкой.