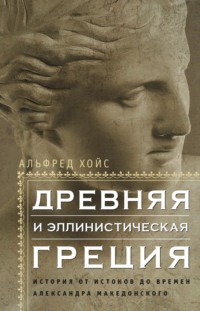Czytaj książkę: «Древняя и эллинистическая Греция. История от истоков до времен Александра Македонского», strona 3
Причины и движущие силы, приведшие к матриархальной организации общества, пока не вполне ясны. В любом случае опыт учит нас, что примитивные земледельческие культуры склонны высоко ценить плодовитость и плодородие, откуда и проистекает почитание женского начала. Это отношение отличается от отношений представителей другой первобытной хозяйственной формы – скотоводов и воинов-пастухов, где на первый план выступали воззрения, обусловленные отцовским правом.
Поскольку Передняя Азия была родиной земледелия, то там в первую очередь и возникло матриархальное мировоззрение. Из-за многочисленных переселений в Переднюю Азию представителей воинственных пастушеских племен культуры Месопотамии, Сирии и Египта во все большей степени начинали воспринимать и перенимать принципы отцовского права. Напротив, Крит воспринял с Востока земледелие, но не столкнулся с иммиграцией пастушеских племен. Именно поэтому там лучше всего и сохранилось материнское право.
К сожалению, мы не располагаем знаниями относительно правовых аспектов жизни минойского общества. Не знаем мы, например, и того, какими правами обладала женщина в вопросах имущественного наследования. Свои выводы мы можем основывать только на сюжетах фресок, рельефов и резьбы по камню. Из этих сюжетов можно заключить, что придворные дамы играли значительную роль в общественных празднествах и церемониях. Мы находим женщину – и никогда мужчин – в среде зрителей на самых лучших местах. Точно так же женщины-жрицы играют первые роли в богослужениях. Почитание женского начала заходит так далеко, что при некоторых сакральных действах мужчины даже переодеваются в женские платья, чтобы стать ближе к Великой Богине. Среди богов на первом месте стояла опять-таки женщина – покровительница и божество земли, материнства и плодородия.
Но что особенно бросается в глаза в минойской дворцовой культуре – это господство женского вкуса. Это видно уже по моде, выставлявшей напоказ женские прелести и требовавшей использования множества украшений. Даже мужчины охотно уступали требованиям моды и увешивали себя цепочками и кольцами, носили дамские прически и щеголяли девически стройными осиными талиями. Даже само лирическое, мечтательное изобразительное искусство минойского Крита развивается в том же направлении. Женским наклонностям соответствует получение радости более от красивых мелких безделушек, нежели от пышных и величественных дворцовых фасадов, любовь к изяществу и изящному и приверженность к играм.
Религиозные воззрения минойских критян определялись в большой степени почитанием плодородия, смены времен года и сил природы в лице землетрясений. Стихийное воплощение Великой Богини проявляется на Крите в различных местных конкретных воплощениях и образах, весьма отличных друг от друга. Именно поэтому такие воплощения носят даже разные имена. Великая Богиня земли выступает под именем Рея, если речь идет о родительнице юного бога; Илифия – когда она стоит у постели роженицы как повитуха; Афина – защитница дворцов и правителей; в определенной пещере ей воздавали почести как Диктинне. Многие другие имена и воплощения канули в реку забвения и остались неизвестны нам.
В самых ранних изображениях богиня предстает перед нами обнаженной, по большей части она стоит, руки опущены вдоль тела или прижаты к груди, фигура отличается стеатопигией и подчеркнутостью вторичных половых признаков. Были также найдены статуэтки сидящей на корточках или рожающей богини. Стоящая богиня с поднятыми руками и обращенными вперед ладонями дарит людям свое благословение. С течением времени скульпторы начали одевать нижнюю часть тела богини в юбку. Потом появилась и блузка, прикрывшая торс, однако грудь при этом все равно остается обнаженной. Головной убор отличался большим разнообразием, часто его украшали змеи или голуби, равно как маки и лилии, но чаще всего это был знак верховной власти – двойной топор (лабрис).
Если мы сравним великое божество Крита с таковым Анатолии, то прежде всего бросается в глаза сходство в том, что божество грозы превосходит силой все другие, что это бог, и только он, но не богиня, носит знак двойного топора. Напротив, Крит вообще не знал бога грозы, здесь во главе пантеона безраздельно стояла Великая Богиня. Несомненно, это обстоятельство связано с постоянными угрозами землетрясений. У Богини земли вымаливали отнюдь не плодородия, а защиты от сейсмических катастроф. В этой же связи можно рассматривать и культ быка.
В земледельческих культурах поклонение быку всегда сочеталось с поклонением Богине земли, и это в полной мере касается культуры Крита. Но здесь речь прежде всего шла об отвращении землетрясений. «Прыжки через быка» могли также быть своеобразным заклятьем против сейсмической опасности. Из представлений о быке достаточно рано ответвилось в Малой Азии, а потом и на Крите представление о бычьих рогах как о символе особой святости. Такие рога устанавливали рядами на крышах минойских домов, чтобы защититься от землетрясений. С особым пристрастием часто устанавливали между рогов и двойной топор.
Особое значение Великой Богини заключалось еще и в том, что она была повелительницей животного царства, не только быка, но и львов, диких коз, а также различных мифических существ. Как Богиня земли, она одновременно была владычицей подземного мира, поэтому мы часто видим ее в окружении змей. Кроме голубей, ее также могли сопровождать сычи. Таким образом, представление о Великой Богине приобретает универсальный, вселенский характер. Перед таким величием отступают на второй план все божества мужского пола.
Не меньшую роль играл в минойской религии культ кустарников и деревьев. Между священными рогами быка часто насаждали кустарники, а жрицы во время культовых действ возлагали к рогам ветки деревьев. В культе мертвых большую роль играли священные деревья. Еще в эллинистическую эпоху на Крите почитали богинь, обитавших в кустарниках или в кронах деревьев.
Древней критской вере в богов был присущ и астральный аспект. В некоторых случаях великую богиню идентифицировали с луной, в то время как ее неизменный спутник бык выступал в данном случае под видом солнца. Возможно, в таких представлениях сыграли известную роль египетские или североафриканские влияния. Даже в греческих мифах угадываем мы старый миф о бракосочетании быка с Европой и Пасифаей. Эллины исказили миф, так как уже не понимали его содержания.
В качестве партнера Богини земли и материнства выступает не только бык, но в гораздо большей степени смертный бог растительности. Каждый год, весной, он становился ее возлюбленным. Летом он умирал, но Богиня земли неизменно рождала на свет нового сына, для которого выбирали кормилиц и друзей по играм, которые забавляли его, пока он не вырастал и в следующем году не становился новым возлюбленным матери-богини. Вариации этого мифа мы находим в Месопотамии, Сирии, Анатолии, а также на Крите. В Египте этот сюжет представлен мифом об Исиде, Осирисе и Горе, хотя там взаимоотношения персонажей несколько иные, так как связаны с разливами Нила.
На Крите рождение младенца и священное бракосочетание отмечалось ежегодными празднествами, в то время как смерть возлюбленного оплакивали во время траурных культовых процессий. В других мифах фигурировало весеннее божество женского пола. Возможно, это божество послужило прообразом Ариадны.
Немалую роль в религиозных фантазиях минойского населения играли сказочные мифические существа. Одно из таких существ было заимствовано из Египта и представляло собой помесь крокодила и бегемота с человеческими руками и ногами. Согласно всем данным, критские жрецы в известных обстоятельствах облекались в соответствующие одежды. Египтяне называли это существо Таурт. Что заставило критян перенять поклонение этому мифическому зверю, остается неизвестным. Примечательно, что культ этого египетского чудовища был заимствован и финикийцами. Еще одним плодом фантазии был человек с головой быка, изображение которого прежде всего можно видеть на критских печатях. На этот случай также могли существовать определенные культовые наряды. Возможно, к этому культу восходит легенда о Минотавре. В виде стража предстает в минойских религиозных фантазиях также гриф, составленный из тела льва, птичьей головы и птичьих когтей, иногда зверь был украшен также и крыльями. Наряду со львом и быком этот мифический зверь являлся символом царской власти. Временами в критском искусстве мы находим «звериные мотивы», картины, на которых изображено, как один зверь нагоняет и разрывает другого. Возможно, эти картины имели какое-то символическое значение, но оно пока остается для нас вполне загадочным и темным.
Представляется, что культовые обряды выполнялись чаще всего в пещерах и на горных вершинах. На пиках гор сооружали небольшие культовые строения; в них находят посвятительные статуэтки и модели мужских членов в большом количестве. В пещерах же находят частью сосуды (с соответствующим содержимым?), частью, однако, также двойные топоры, мечи и другое оружие.
В эпоху дворцов в них самих находились различные культовые сооружения, которые располагались в подвалах, а также и в башенках верхних этажей. Скорее всего, это было местом молитв о защите от землетрясений. На печатях и фресках мы видим только божества, стоящие на неопределенном фоне, нигде не видно специальных зданий для отправления культа. Правда, время от времени археологи находят в развалинах подобные сооружения, встроенные в здания дворцов.
В такого рода часовнях располагались алтари с расставленными на них статуэтками богинь, двойными топорами, культовыми рогами и сосудами, а также посвятительными дарами; богов призывали, трубя в просверленные раковины морских моллюсков. В трубчатых сосудах, покрытых волнообразным орнаментом, держали священных змей. Возможно, существовали и более крупные культовые изображения. Недавно на южном Крите была обнаружена большая глиняная статуя, изображавшая юного бога. Представляется, что известную роль во время принесения жертв играли переносные алтари и каменные столы.
Церемонии и культовые процессии заключались прежде всего в подношении посвятительных даров, цветов и культовых одежд, священного хлеба и жертвенных напитков. В праздничные дни устраивались процессии, а в священных рощах женщины исполняли культовые танцы. В конце весны в ходе особых траурных ритуалов оплакивали кончину бога растительности.
Как особенно выдающийся из минойских обычаев, мы должны подробно рассмотреть «прыжки через быка». Первоначально, как мы уже упоминали, речь при этом шла о заклинании против землетрясений, а сами прыжки представляли собой замаскированные человеческие жертвоприношения. С течением времени стали преобладать моменты артистизма и сенсационности. Юноши и девушки, готовые к этому опасному испытанию, становились перед разъяренным быком и ждали, когда он бросится на них, чтобы в последний момент схватить его за рога и, перекувырнувшись, спрыгнуть позади быка на песок. Успешное выполнение этого рискованного и опасного прыжка, без сомнения, встречалось с большим воодушевлением, хотя похоже, что многие смельчаки платили жизнью за это смелое предприятие. Было и более легкое упражнение с быком – при этом надо было в течение какого-то времени усидеть на спине животного.
Неясным остается ответ на вопрос: всегда ли находилось достаточное количество добровольцев для исполнения этого смертельно опасного прыжка. Возможно, здесь присутствовал элемент принуждения и насилия, если и в более поздние времена прыжок рассматривали как средство против землетрясения, и поэтому он воспринимался как суровая необходимость. Вероятно, Крит, который в те времена господствовал на Эгейском море, требовал от греков, живших на берегах материка, дани в виде юношей, которых затем заставляли прыгать через быка. Возможно, такой обычай существовал во времена древних дворцов или даже в XVII веке до н. э., когда минойский флот беспрепятственно бороздил морские просторы. Отсюда, наверное, ведет свое происхождение легенда о приносимых в жертву юношах, которых требовал от Афин легендарный царь Кносса Минос, отдававший их затем на расправу Минотавру.
Наши знания о минойских погребальных обрядах очень скромны, поэтому нам трудно воссоздать в полной мере представления критян о потустороннем мире и связанном с ним культом мертвых. Вначале мертвых хоронили преимущественно в естественных углублениях. Позже для погребения начали выкапывать искусственные могилы, но при этом уделяли весьма малое внимание отделке помещения гробницы. Одиночные трупы хоронили в больших сосудах или ваннах из глины. Довольно рано, под воздействием североафриканских влияний, вместо ям стали устраивать круглые или купольные захоронения, в которых погребали довольно большое количество мертвецов – членов одной семьи или, временами, жителей одной местности или одного поселения. Маленькие круглые могилы и могилы средних размеров перекрывались внутренним каменным куполом (толосом). Для этого по стенам выкладывали ряды кирпичей, причем каждый следующий ряд укладывали ближе к центру. Особенно крупные захоронения перекрывали деревянными крышами. К круглым или купольным гробницам часто пристраивали четырехугольные помещения, которые первоначально служили культовым целям, а потом стали использоваться как погребальные камеры. Такие гробницы получили широкое распространение в центральной и восточной частях острова.
В погребальном инвентаре частных лиц чаще всего можно встретить глиняную посуду (вероятно, для приема пищи), личные украшения, так же как печати из камня или слоновой кости, кинжалы и ножи, но очень редко в таких могилах находят дорогие вещи. В одной купольной гробнице близ Агиа-Триады были недавно найдены интересные глиняные миниатюры, на которых запечатлены сцены культа мертвых. На этих миниатюрах мы видим хороводный танец, выпечку жертвенного хлеба и замечательно сохранившееся изображение церемонии жертвоприношения, в ходе которого четыре сидящие фигуры (вероятно, божества или давно умершие герои) принимают жертвенный хлеб из рук двух коленопреклоненных мужчин.
Более богатым и разнообразным инвентарем регулярно отличались погребения царей. Так, в захоронении близ Мохлоса были найдены великолепные золотые украшения. То же самое можно сказать и о пышных усыпальницах, устроенных для царей Маллии. До наших дней эти погребения называют не иначе как «хрисолаккос», то есть золотыми могилами. Когда Эванс откопал царскую усыпальницу в Кноссе, выяснилось, что она была разграблена еще в глубокой древности, но тем не менее гробница выделялась своим архитектурным великолепием. Над собственно гробницей, расположенной под землей, был найден верхний, надземный этаж с расположенным в нем храмом, однозначным свидетельством существовавшего в те времена ритуала погребального культа.
К временам, когда минойская культура уже начала приходить в упадок, относится знаменитый саркофаг из Агиа-Триады, на стенах которого были изображены сцены этого культа мертвых: в жертву приносили быка, его кровь посвящали подземному миру; вместе с покойником хоронили и других животных, съестные припасы и даже модели судов, вероятно для пересечения потусторонних водоемов. Все это составляло погребальные жертвы, отправлявшиеся в потусторонний мир вместе с умершим; погребальное пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Обряды выполнялись главным образом жрицами; участвовавшие в церемонии мужчины переодевались в женские одежды, иногда, правда, они обряжались в звериные шкуры (под египетским влиянием?). В качестве предмета процессии изображен силуэт вертикально стоящего покойника. Подразумевается ли его труп, мумия или воплощенная кровь быка, вернувшаяся по нашу сторону бытия? Этот вопрос остается без ответа, как и другие, о том, например, везет ли фантастическая упряжка, изображенная на боковой стороне саркофага, только богов, или в этом путешествии принимает участие и душа усопшего. Несмотря на то что картина на саркофаге сильно впечатляет, ее объяснение для нас пока невозможно.
В греческих мифах существуют разнообразные отголоски минойских представлений о потустороннем мире. Так, судьей мертвых и властелином подземного царства считали Радаманта, а после него также Миноса. Радаманта переместили в Элисий, а потом на острова блаженных, что восходит в точности к минойским представлениям.
Минойская религия содержит еще множество не решенных нами проблем. Твердо установлено одно – на Крите религия играла такую большую роль, что сравниться с ним в этом отношении могли немногие культуры. Вся частная и общественная жизнь была буквально пропитана религиозными мыслями и чувствами.
Поскольку на Крите существовала абсолютно не воинственная культура, все культурные усилия были направлены на мирные цели. Важнейшей предпосылкой к этому служило процветание экономики. Крит мог похвастать упорядоченным сельским хозяйством, имел в своем распоряжении большое поголовье скота, плоды развитого садоводства. На острове производили и экспортировали вино, масло, духи, вывозили в Египет древесину. Однако важнейшей статьей минойского вывоза служили художественные изделия. Для этого, естественно, приходилось ввозить в больших количествах нужное для их изготовления золото и слоновую кость, при этом египетские изделия по своему ювелирному изяществу и красоте инкрустаций также служили неподражаемым образцом. Но Крит превосходил весь остальной мир оригинальностью и качеством сосудов из керамики и фаянса, стеатита и благородных металлов, красотой статуэток животных и резьбой по дереву, мастерством глиптики, геммами и печатями, а также производством длинных мечей с роскошно украшенными рукоятками.
Этими промыслами занимались отчасти во дворцах, отчасти в частных мастерских. Обмен товарами происходил во дворцах, бывших центрами меновой торговли, при этом ремесленники не испытывали никакого давления и принуждения со стороны дворцовой администрации. Небольшие предприятия преуспевали и в провинциях, хороший доход приносила рыбная ловля, добыча пурпурной крошки и губки, а также производство тканей и красителей, давильни масла и производство парфюмерных изделий.
Ошибочным представляется часто высказываемое мнение о том, что по своему техническому развитию Крит отставал от Микен. В действительности именно минойские ремесленники были законодателями подлинных технических новаций. В Эгейском регионе именно они первыми построили водопровод и водохранилище, устроили во дворцах туалеты, ванные и канализацию, они были большими мастерами в строительстве дорог и мостов. Их оснащенные парусами и веслами суда были лучшими кораблями своего времени. Они первыми в строительстве освоили выносную каменную кладку, как концентрическую, так и линейную, и, кроме того, даже использовали свое знание закона сообщающихся сосудов в устройстве фонтанов. Отстали критяне только в строительстве крепостей и укреплений, поскольку считали, что им не нужны фортификационные сооружения.
Однако насколько минойская культура преуспела в своих усилиях в экономике и технике, настолько же малых успехов удалось добиться ей в некоторых других отношениях. Вину за это нужно возложить на присущее этой культуре ограничение, или, лучше сказать, самоограничение. Критяне были слишком вялыми и небрежными работниками, пугались пребывания на чужбине. Только на своем острове чувствовали они себя счастливыми, им не хватало пионерского духа и тяги в неведомое. Минойской международной торговле не хватало порыва, напора, а минойская талассократия так и не привела к созданию морской империи. Их технические интересы ограничивались и исчерпывались тем, что лежало на поверхности, они пренебрегали терпеливыми, требовавшими самоотречения исследованиями и изысканиями, которые нуждались в длительном и тяжком труде. Человек минойской культуры отличался общительностью, получал большое удовольствие и радость от сутолоки, зрелищ и празднеств. В частных развлечениях он предпочитал настольные игры и игру в кости. Таким образом, можно сказать, что критянин был склонен к игре и не отличался волей и стойкостью в достижении отдаленных целей; именно поэтому в реальности в жизнь воплощались лишь немногие перспективные проекты.
Никакое художественное мастерство, никакая утонченность, никакое изящество не смогло бы придать критским изделиям такую привлекательность, не будь эти изделия порождением собственно минойской творческой идеи. Другими словами, если бы Крит удовлетворился усвоением преимущественно культурных заимствований из-за границы, то творения критских мастеров вряд ли отличались бы большей оригинальностью, чем, к примеру, финикийские или этрусские. В ранний период развития критской цивилизации острову не хватало собственных культурных импульсов. В те времена Крит был подвержен влияниям со стороны Северной Африки, Передней Азии, Анатолии, Греции и Балканского полуострова, ограничиваясь созданием комбинаций из заимствований. Однако с момента создания древних дворцов на острове пробудились собственные изобразительные силы. В новом духовном климате восторжествовало своеобразие специфически критского художественного ремесла, весьма стихийного, элементарного собственного искусства.
Толчком к этому развитию ни в малой степени нельзя считать заимствование спирали и завитков на Кикладах и Балканском полуострове. То, что на Крите сделали с этими заимствованиями, стало собственным искусством, проникнутым идеей движения, искусством его изображения. Все грядущие минойские творения были созданы под знаком этой идеи.
Во времена древнейших дворцов господствовали криволинейные украшения, представляющие особый интерес. Этот криволинейный орнамент использовали для украшения тканей, образцы которых были покрыты бесконечно повторяющимся раппортом. Однако на первый план своей красотой выдвинулись керамические изделия. Декоративные элементы покрывали по окружности стенки сосудов, на них наносили подлинные планетные системы, состоявшие из кругов, эллипсов, спиралей, завитков и противозавитков, которые направлялись наружу, внутрь и комбинировались в немыслимых поворотах. Никогда позже не видел мир такого богатства, подобного орнаментального разнообразия, усиленного таким же гармоничным сочетанием множества взаимодействующих цветов, создавшим неповторимую цветовую гамму.
Ко времени древнейших дворцов центр тяжести художественного творчества переместился на орнаментальные концепции. При этом орнаментальные картины создавали впечатление буйного и пышного цветения, ибо все эти спирали и завитки изображали ветви и листья растений; критские орнаменты того времени пленяют сочетанием принципов геометрических и растительных мотивов.
При этом об изображении фигур мастера заботились лишь попутно. В те времена фресковая живопись была еще не развита. Поскольку в то время отстало и гончарное ремесло, то существовали только статуэтки богов, молящихся людей и животных. Все эти изделия служили культовым посвящениям, кроме того, для этого же выполняли резьбу по камню. Только здесь, в глиптике, сценическое искусство выходит на простор художественного воображения. Мы видим старика, сидящего под пальмой за игровой доской, ссорящихся женщин или жаждущего человека, пьющего воду из сосуда. Здесь мы видим по преимуществу изображения животных, которых показывали в движении, в стремительном беге или в прыжках. Видим мы львов, быков, диких коз, грифов и сражающихся зверей. О значении мореплавания говорят многочисленные изображения кораблей. Наряду с этим мастера не забывали и об орнаментах, спиралях, завитках, розетках и звездочках. Встречаем мы и печати, хотя и редко, на которых пиктографическим слоговым письмом нанесено имя владельца. Исключительно редко на расписных вазах мы видим фриз, украшенный изображениями рыб, деревьев, или фигуры богини, вокруг которой танцуют жрицы. Однако эти попытки портретной и фигурной живописи все же остаются пока слишком вычурными и орнаментальными.
Когда после природной катастрофы были заново отстроены дворцы и наступила «новая эра», изменившаяся ситуация придала минойскому искусству новый импульс. На первый план выступило искусство изображения фигур. Имена скульпторов нам неизвестны, но их творения убеждают нас в том, что это были гениальные мастера. Они создавали фигурные фрески и рельефные изображения на стеатитовых чашах. Однако наивысшего расцвета их искусство достигло в малых формах, а именно в резьбе по камню (в глиптике).
Большим богатством отличается исполнение мотивов и сцен. Мы находим миниатюрные фрески с изображениями больших собраний, празднеств и танцев; коридоры, ведущие в тронные залы, украшались монументальными изображениями процессий, несущих дары; резная стеатитовая чаша позволяет нам пережить участие в процессии по случаю праздника сбора урожая. Часто встречаются излюбленные изображения прыжков через быка, а также состязаний борцов и кулачных бойцов. Очень редки картины боев с применением оружия, серьезных схваток. Такие изображения встречаются только на печатях, где они исполнены динамизма и красоты форм.
Весьма многочисленны сцены с культовым содержанием – принесением жертв и молитвами. На геммах эти мотивы часто сочетаются с темой благословения божественного младенца. На печатях иногда можно видеть сцену оплакивания умершего весеннего бога, возложение священных деревьев и ветвей, принесение в жертву быка, камлания жрецов Таурта. Фрагмент недавно найденной стеатитовой чаши изображает принесение хлебных даров высшему божеству.
Находим мы и изображения божеств, но только на цилиндрических печатях и в виде статуэток, их никогда не изображали на фресках или на стеатитовых чашах. Найденные в развалинах Кносского дворца фаянсовые статуэтки богинь змей снискали вполне заслуженную известность. На печатях мы видим стоящую на вершине горы Великую Богиню в окружении львов и других животных, с двойным топором в руке; иногда ее изображали сидящей под священным деревом или на ступенях ее святилища. Иногда встречаются изображения юного бога, как правило в сопровождении животных. Что же касается скульптуры крупных форм, то она не столь уж невероятна, как полагают некоторые исследователи.
Что касается отображения сферы человеческих отношений, отличных от культовых сцен, то археологи находят изображения беседующих дам, развлекающихся принцев, офицеров, командующих солдатами. Особенно излюбленным мотивом фресок были все же садовые сцены. Едва ли в какую-то иную эпоху человеку с таким искусством удавалось воспроизвести очарование цветов и растений, ветвей и кустарников, освещенных солнцем и шевелящихся на ветру, так искусно вплести в сюжеты сказочное настроение. Здесь кошки продираются сквозь мелкий кустарник, подстерегая невиданную райскую птицу, здесь бродят обезьяны по светлым цветочным полянам; здесь видим мы куропаток и водоплавающих птиц, мелькающих за прибрежными кустами.
Заслуживает, однако, внимания одна примитивная черта этого искусства: в минойском искусстве нет перспективы; неоднократно отмечалось отсутствие центрального плана, а также во многих случаях отсутствует базисная линия. Фигуры людей, как правило, изображаются в профиль, но глаза при этом выглядят так, словно на них смотрят спереди. Окружающий пейзаж с его скалами, кустарниками, цветами выглядит обычно так, словно на него смотрят сверху, при этом изображенная сцена со всех сторон, даже с той, которую мы воспринимаем как бы сверху, тоже кажется окруженной предметами пейзажа. Подобные черты мы находим, между прочим, пусть даже и не в такой грубой форме, в египетском искусстве.
Современного зрителя минойское искусство фрески пленяет своей цветовой гаммой. Натуралистическое свободно сочетается в них с фантастическим. При изображении растений и цветов художники используют их натуральную окраску. Все мужчины выкрашены в красный цвет, а женщины в более светлый (как это было принято у египтян). Обезьяны окрашены в синий цвет, как, впрочем, некоторые деревья и птицы. Задний план окрашен не только в желтый, красный или синий цвет; часто встречается сочетание всех трех цветов, которые составляют при этом волнистый многослойный фон.
В целом своими линиями, цветовой гаммой и сценической композицией минойское искусство являет нам неповторимую красоту. Нас пленяют и очаровывают внутреннее напряжение картин, их плотное построение. Это искусство ускользает в мир грез, представляет фантастическое, но от этого становится лишь еще более реалистическим и действенным.