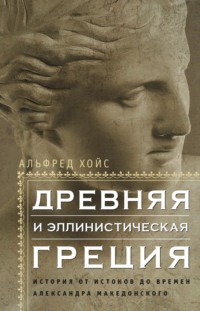Czytaj książkę: «Древняя и эллинистическая Греция. История от истоков до времен Александра Македонского», strona 2
После катастрофы победители и побежденные сумели постепенно объединиться в новый, смешанный народ. Были отчасти отстроены старые поселения, но по преимуществу населенные пункты строились теперь не на побережье, а в глубинных районах. В культурном отношении можно говорить об объединении двух традиций.
Позволительно с достаточной долей уверенности принять, что пришельцы принадлежали к племенам, говорившим на протогреческом языке. Другие ветви этих протогреческих пастушеских племен продолжали пасти овец в горных областях вокруг Олимпа и Пинда, в Эпире, а также отчасти в Македонии. Так произошло разделение этих протогреческих племен. Завоеватели Эллады, став наследниками раннеэлладской культуры, превратились в крестьян и жителей городов, те же, кто осел в горах, продолжали заниматься отгонным скотоводством, выгоняя овец летом на зеленые пастбища на склонах гор.
Несмотря на такой очевидный раскол, эти протогреческие группы были объединены общим индоевропейским происхождением и прародиной, расположенной в Восточной Европе. К традициям, принесенным этими пришельцами в Грецию, относились прежде всего формы экономической жизни и хозяйствования, свойственные доисторической индоевропейской общности, а именно скотоводство с нерегулярными занятиями примитивным и эпизодическим земледелием. Вторгшиеся племена привыкли к беспокойной бродячей жизни, в которой территория не значит ничего, а объединение племен – все. Они жили отцовскими общинами, что являлось правилом для скотоводческих племен. Все эти особенности остались традицией завоевателей и были сохранены и впоследствии, когда они на греческой почве превратились в крестьян и городских жителей и смешались окончательно с местным аграрным населением.
Численность вторгшихся в Элладу племен, должно быть, была очень велика, так как их язык при смешении пришельцев с покоренными местными народами смог устоять в столкновении с местными эгейскими диалектами. Только географические названия населенных пунктов, гор, рек, а также обозначения и наименования автохтонных для Эгейского региона животных и растений, образовав культурный пласт топонимов и обиходных слов, остались в наследство от переработанной материальной и духовной культуры раннеэлладского общества и были заимствованы формирующимся греческим языком.
Минойская культура Крита
Покорение материковой Греции сильными племенами протогреков знаменовало собой лишь одну фазу целого ряда индоевропейских завоеваний. До тех пор историческое лицо этого культурного пространства определяли народы, для которых юг был родиной, – таковы были шумеры, семиты, хамиты, эгейцы и многие другие. После стремительных нашествий индоевропейских орд верховенство и власть в этом пространстве захватили привыкшие к тяжелым условиям жизни чужаки и пришельцы, для которых так характерен был суровый быт и жестокий образ жизни. Своими успехами они были обязаны свирепой воинственности. Поначалу у протогреков, лувийцев и хеттов на вооружении были лишь боевые топоры, тем не менее они покорили Грецию и Малую Азию только своей неустрашимостью, воинской доблестью и неудержимым напором.
В Переднюю Азию вторглись племена юго-восточных, называемых арийцами, индоевропейцев, обладавших более мощным вооружением. Вероятно, на Кавказе они начали заниматься разведением породистых благородных лошадей и заставили своих хурритских подданных делать легкие быстроходные повозки. Превратив их в быстрые боевые колесницы, они получили в руки мощнейшее оружие, позволившее им одолеть своих многочисленных могущественных врагов. Исполненные гордости за свое новое оружие, они привыкли вести рыцарский образ жизни и, ссылаясь на него, считать себя людьми, обладающими особыми, преимущественными правами.
Этим арийским колесничим удалось на исходе XVIII века до н. э. пройти через Армению, захватить Сирию и Месопотамию и на какое-то время подчинить себе хеттов Малой Азии. Во всей области, включавшей в себя Палестину, Сирию и Верхнюю Месопотамию, образовали они арийские феодальные государства, которые подчинялись верховным царям хурритского или митаннийского происхождения. В Вавилоне власть удалось захватить касситам, которые также происходили из арийских родов. В Египте последнюю династию Среднего царства разгромили пришельцы, вторгшиеся сюда из Азии, – гиксосы. Несомненно, что в массе своей это были сыны пустыни семитического происхождения, но и здесь ведущую роль играли аристократы арийского происхождения, сражавшиеся на колесницах. С гиксосами боевая колесница пришла в Египет, и египтяне так высоко оценили роль породистого коня в войне, что даже стали хоронить лошадей в особых могилах.
Только Крит, благодаря своему островному положению, сумел сохранить независимость. Нельзя, конечно, исключить того, что и туда нашло через Малую Азию дорогу некоторое этническое или языковое индоевропейское влияние, но на Крите этот пришлый элемент быстро ассимилировался, и поэтому автохтонные обычаи сохранились на Крите во всем своем исконно-средиземноморском своеобразии и самобытности.
В таком положении, окруженные со всех сторон угрозами нашествия врагов, пришедших в Эгейский регион, народ Крита не удовольствовался тем, чтобы сохранять то, что у него было. Уже около 2100 года до н. э. остров не был больше похож на другие области Греции или Малой Азии. На вызов, брошенный Криту враждебным окружением, он дал замечательный, великолепный и непревзойденный ответ. На острове были созданы дворцы неслыханной красоты, построенные творческим гением критян.
Резиденции правителей существовали и раньше, их начали строить в незапамятные времена, но в сравнении с частными домами прочих людей они выглядели не более чем первые среди равных. То же можно было сказать и о мегаронах правителей Димини или Трои, которые стояли среди домов их подданных. Напротив, дворец по своей архитектуре и по общественному значению был миром в себе и для себя и в своем сановном достоинстве примыкал только к храму.
Второе тысячелетие до нашей эры можно было бы с полным правом назвать эпохой великих дворцов. Мы находим их в Месопотамии и Сирии, в Малой Азии и на Крите. В Египте возводят дворцы для фараонов, а рядом – огромные храмы, которые все должны были рассматривать как дворцы богов и жрецов. Что придавало этим дворцам неповторимое своеобразие и значение? Ясно, что при этом особую роль играла тесная связь царя с богами, обожествление правителя и пребывавшая с ним «милость божья», а также его абсолютная власть над народом, жившим на подчиненной царю территории. Можно, однако, предположить, что в первую очередь в этом имели решающее значение экономические и хозяйственные факторы. Разделение ремесел на множество специальностей ювелиров и других ремесленников, разделение, которое при подъеме и совершенствовании культуры должно было с необходимостью происходить, чем дальше, тем больше усложняло и увеличивало вознаграждение высококвалифицированного труда. Да, уже умели обрабатывать благородные металлы, их умели взвешивать, но в то время еще не научились чеканить монету, то есть не существовало настоящих денег. Всюду господствовал натуральный обмен. Но, например, отнюдь не всегда мог мастер, изготовлявший тончайшие изделия из слоновой кости, обменять сделанные им украшения на яйца или рыбу в процессе такого примитивного рынка и товарообмена.
Таким образом, была настоятельная нужда в каком-то виде централизованного обмена, способного обеспечить согласование производства и спроса. При этом необходимо было сделать это не для отдельных индивидов, а для целых профессиональных групп, с тем чтобы облегчить взаимные расчеты между ними. Очевидно, что эти регулирующие функции еще в третьем тысячелетии до нашей эры взяли на себя дворцы и большие храмы в Месопотамии и Египте, а во втором тысячелетии это сделали дворцы и многие храмы Малой Азии и Сирии, а также дом правителя на Крите. От дворца к дворцу осуществлялась также иногородняя торговля. Отсюда понятно, почему ремесленники с такой охотой селились во дворцах – ведь там они ближе всего находились от источника нужных им товаров, которые они получали в обмен на свою продукцию. Ремесленники не без оснований видели в правителях и придворных своих самых лучших и предпочтительных заказчиков.
Для выполнения такого обмена естественно требовалось вести записи и бухгалтерские книги; вполне вероятно даже, что именно потребность в таких книгах для регистрации торгового обмена привела в известной мере к заимствованию и распространению письменности. Отсюда практически во всех раскопках находят архивы с многочисленными «хозяйственными» текстами, которые являются, по сути, не чем иным, как списками полученных и сбытых товаров. Если мы будем рассматривать эти тексты как свидетельства передачи товаров в процессе меновой торговли, то нам сразу все станет ясно.
Польза, которую подданные извлекали из такой посреднической функции дворцов, была весьма значительной, не говоря о том, что придворные круги, очевидно, никогда не занимались подавлением частного предпринимательства. Польза от дворцов в действительности, однако, была еще более значительной, ибо им по закону предоставлялось преимущественное право покупать. Есть и еще одна вещь, которая позволяет еще лучше пояснить роль дворцов: тесный контакт дворцов второго тысячелетия с городским обществом, как это можно заключить из сохранившихся текстов; дворцы одновременно образовывали коммерческие городские центры.
Если мы представим себе значение такой взаимосвязи, то нам станет ясно, почему на Крите смогла возникнуть и развиться столь высокая и пышная придворная культура, которая при этом смогла не утратить связи с «народом», и почему население не только в столице, но и на всей территории острова участвовало в культурном подъеме.
Первое крупное здание резиденции правителя было найдено в Василики на востоке Крита. Этот дворец относится к середине раннеминойского периода. К исходу этого периода в Кноссе уже, видимо, существовало еще большее по размерам здание правителя, два гипогея (подвальных помещения) которого открыл Эванс. В данном случае мы, возможно, имеем дело либо с гробницей, либо с водоисточником, которые вырубили в скальной породе. К сожалению, эту постройку принесли в жертву другому – выполненному – плану: построить на этом месте первый большой дворец первого среднеминойского периода.
Приблизительно в то же время, когда началось строительство, в области искусства тоже произошли изменения, чреватые значительными последствиями. В то время на близлежащих Кикладских островах уже существовал спиральный орнамент. Этот орнамент вырезали на печатях и на вазах, вырезали этот узор и на стенках каменных шкатулок. В раннеминойском периоде критяне переняли этот орнамент в первую очередь для украшения печатей. С началом эпохи строительства дворцов минойские гончары с рвением принялись применять в своих изделиях этот декоративный мотив. Довольно неожиданно и внезапно в это же время на Крите появляются такие балканские мотивы, как спирали и торсии. Мы не знаем, какое историческое значение можно придать этим явлениям. В любом случае они, в большой мере, пробудили в минойском искусстве новые, никому доселе не ведомые силы. Общественно-политический толчок возвышения царской власти встретился здесь с чисто художественными новациями. В таких благоприятных условиях началась эра минойских дворцов.
Так называемые «древнейшие» здания относятся прежде всего к времени между 2000 и 1700 годами до н. э. Мы находим их в слоях I среднеминойском (вторая половина) и II среднеминойском.
В течение первого среднеминойского периода была расчищена и выровнена вся площадь, занятая Кноссом. На получившейся таким образом ровной плоской поверхности построили ряд задних домов, образовавших обрамление четырехугольного внутреннего двора. Представляется, что поначалу думали о строительстве укрепленных оборонительных сооружений, но потом от этих планов отказались. Упомянутые дома со временем были объединены в единый архитектурный корпус исполинской величины, внутри которого остался большой квадратный внутренний двор. Во дворце находились хранилища, мастерские, помещения для отправления культа, жилые помещения для слуг и свиты и превосходно отделанные и убранные покои с террасными колоннадами для знати. Не забыли строители и о представительских залах для приемов, званых обедов и пиров, но до наших дней, к сожалению, эти помещения нигде не сохранились. Единственные остатки древнейших дворцов, какими мы располагаем в наши дни, – это склады и погреба.
Точно так же, как в Кноссе, обстоят дела и в Фесте. Также и здесь были обнаружены только самые нижние этажи. Последние расположены в трех последовательных слоях, ибо с небольшими промежутками времени, один за другим, стали жертвами землетрясений. После стихийных бедствий развалины не расчищали, просто засыпали их щебнем и строительным мусором и укладывали сверху новый пол. Так каждый раз в подвале нового строения оказывались предыдущие здания, зачастую окруженные стенами высотой больше человеческого роста, внутри которых, наряду с разбитой, но легко восстанавливаемой дворцовой керамикой, находили и многое другое – орудия труда, печати, оттиски и даже немногочисленные письменные памятники. Например, в Фесте в первоначальном здании у главного входа находился «бастион», весьма напоминающий укрепление, но и здесь очень рано отказались от таких оборонительных мероприятий. В остальном здание дворца в Фесте всеми своими основными чертами копировало Кносский дворец. И здесь строения дворца группируются вокруг обширного квадратного центрального двора. Дворец в Маллии тоже был выстроен по подобному плану с внутренним двором и с множеством помещений в главном здании. Правда, надо сказать, что и от этого дворца мало что осталось. На богатство его указывает только царская усыпальница в Хрисолакке, где находили вечный покой представители тогдашнего придворного общества.
Обращает на себя внимание тот факт, что все три дворца устроены по единому образцу. Всюду встречаем мы ориентированный с севера на юг центральный двор, всюду был вымощенный западный двор, позаботились обитатели и о складах с большими сосудами (пифосы), в которых хранили припасы, о местах отправления культа и жилых помещениях, причем покои знатных аристократов были украшены и обставлены пилястрами и колоннами. Доказано также существование многих расположенных друг над другом этажей. При таком умопомрачительном количестве помещений большую роль, несомненно, играла система коридоров и лестниц.
Все три дворца были окружены городскими кварталами, которые, разумеется, раскопаны весьма мало. В прочих местах Центрального и Восточного Крита были найдены многочисленные строения, которые принадлежали мелким городкам или деревням.
Естественно, нам бы хотелось больше знать о политических отношениях эпохи древних дворцов, но, к великому сожалению, развалины их мало чем могут нам помочь. Примечательно, что в западных районах Крита до настоящего времени было сделано лишь небольшое число археологических находок. Отчасти это объясняется ограниченным количеством раскопок в западной части острова. Тем не менее складывается впечатление, что эта часть острова отставала в культурном отношении. Можно сделать правомерное заключение о том, что трем дворцам в центральной части Крита соответствовали три династии. Вероятно, они находились в дружественных отношениях, чем можно объяснить их пренебрежение к строительству укрепленных сооружений. Вероятно, уже тогда династия кносских правителей превосходила две другие и дворец в Кноссе служил примером для зодчих Феста и Маллии. В мелких городах могли находиться резиденции других династий, имевших меньшее значение и, возможно, зависимых от обитавших в дворцах царей. Но мир на Крите сохранялся не только в результате согласия между царями, но в первую очередь благодаря сильному минойскому флоту.
В эпоху ранней бронзы господство на море принадлежало кикладскому флоту. Теперь эта роль перешла к флоту Крита. Мощный экономический рывок острова и богатство его дворцов не в последнюю очередь объясняются этой переменой в жизни «талассократии». Крит взял в свои руки заморскую торговлю, включил в сферу своего влияния мелкие греческие острова и начал посылать купеческие суда в Египет, на Кипр и в Сирию. В стране фараонов и в сирийских гаванях начали торговать критской керамикой. Восточные владыки охотно использовали спиральные декоративные мотивы для украшения своих дворцов, предпочитая критский орнамент египетским скарабеям. В Египет приезжали минойские ремесленники, которые принимали участие в строительстве пирамид. С всемирно-исторической точки зрения весьма значительным представляется тот факт, что эпоха древних дворцов по времени совпадает с эпохой Среднего царства и расцветом египетской культуры.
Приблизительно около 1700 года до н. э. все известные нам дворцы были внезапно разрушены, что знаменовало конец эры древних дворцов. С точки зрения археологии особенно сильное впечатление производят развалины Кносского дворца. Меньше нам известно о Маллии. Согласно расчетам Доро Леви, в Фесте катастрофа случилась, скорее всего, несколько позже. Мы не знаем, разрушились ли дворцы в результате землетрясения, или они были уничтожены враждебными завоевателями, и имеет ли эта катастрофа какую-либо связь с великими вторжениями на территорию Передней Азии.
Новые дворцы, которые были отстроены после происшедшего разрушения древних сооружений, открывают последнюю страницу процветания минойской культуры. Великий труд восстановления вдохнул в художников новые силы. Гениальные мастера совершили прорыв в области изображений фигур и сцен. И снова в первых рядах этих шедевров мы видим Кносский дворец. Эта ступень обозначается в археологии как третий подпериод среднеминойского периода. Меньше известно нам о дворцах Маллии и Феста. Однако в это же время в центре и на востоке Крита процветали более мелкие сельские поселения.
Приблизительно в 1600 году до н. э. Кносс и вообще все северное побережье острова пострадали от сильных разрушений, вызванных мощным землетрясением. В это же время Кносс подвергся вражескому чужеземному разграблению. Вероятно, сейсмические толчки и вызванные ими приливные волны уничтожили сильнейший минойский флот.
Примерно в это же время на материке начинает укрепляться греческое господство. Греки, пусть даже временно, высаживались на Крите и в Египте. Видимо, именно их отряды грабили Кносс. Как бы то ни было, но именно с этого времени в Микенах начинают появляться критские мастера. Вероятно, микенские греки помогали египтянам изгнать из страны гиксосов.
Но Кносс сумел преодолеть и этот удар судьбы: именно теперь минойская культура достигает пика своего прекраснейшего, хотя, правда, и последнего расцвета. Историки обозначают это счастливое время – приблизительно от 1560 до 1450 года до н. э. – как первый подпериод позднеминойского периода.
Мы можем во всех подробностях исследовать дворцы и многие местные центры – резиденции мелких властителей, а также роскошные виллы, так как на этих местах в более поздние времена уже не велось никакого строительства и руины остались в неприкосновенности. Итак, мы можем изучать и представлять себе во всех подробностях эту последнюю ступень минойской архитектуры.
Заново возведенные большие дворцы опять обрамляли обширные квадратные внутренние дворы, которые украшали колоннады, крытые галереи и другие архитектурные детали. Вокруг двора высились несколько этажей настоящего лабиринта из комнат, коридоров, лестниц, вентиляционных колодцев и террас. В подвалах и погребах находились склады, где хранили масло, вино, зерно, бобовые и множество других продуктов. Именно в подвальных этажах располагались также мастерские гончаров, мастеров росписи сосудов, резчиков по камню, резчиков по слоновой кости и мастеров по выделке фаянсовых изделий. Здесь же находились прессы для отжима масла и скрытые святилища грозной и чреватой землетрясениями Великой Богини земли. Верхний этаж выполнял представительские функции, вероятно, здесь были большие залы, которые при разрушении дворца оказались в нижележащих этажах. В верхних этажах, в торцевых частях здания, откуда открывались виды на великолепные ландшафты, вдали от шума мастерских, располагались покои членов царской семьи. Здесь находились красивые спальни, террасы с передвижными стенами, ванные комнаты со всеми доступными в тот период удобствами.
Входы в Кносский дворец проходили по узким улочкам и коридорам между строениями дворца и заканчивались – в большинстве своем – во внутреннем дворе. Так можно было легко контролировать торговлю и обмен. Трибуны, с которых наблюдали за праздничными играми и представлениями, находились в западном дворе. Так же был устроен и дворец в Фесте, где роскошная наружная лестница вела в залы приемов. Сбоку, примыкая к ней, находились трибуны с местами для зрителей. Места располагались амфитеатром, что позволяло всем зрителям без помех наблюдать праздничные игры и ритуалы.
Фресками был богато украшен только Кносский дворец. Стены ведущих к залу приемов коридоров были покрыты красочными изображениями праздничных процессий и церемоний подношения даров. На некоторых стенах сохранились картины с излюбленным сюжетом приручения быка и других религиозных празднеств. Часто встречаются сцены из жизни животных, а также изображения садов и растений.
Снаружи дворец не представлял собой некоего монолитного сооружения. Дворец достраивали и расширяли изнутри кнаружи. Строители и архитекторы старались создавать изящные формы, но при этом обращали внимание только на отдельные детали – например, на определенные ворота, на определенную лестницу. Так на месте строения вместо гармоничного архитектурного ансамбля возник довольно хаотичный конгломерат оказавшихся в случайном соседстве зданий. Вероятно, дворцы можно представить себе как своеобразные «сити», расположенные среди городских построек. Здания буквально примыкали к окружающим домам – их разделяли считаные метры, и никто не думал о том, чтобы убрать с дороги частные строения. Частная собственность уважалась, и почтительному расстоянию ее от царского дворца никто не придавал никакого значения. К западу от дворцовых сооружений, кроме того, находилась обширная вымощенная площадь. Перед окнами владыки, как представляется – во всяком случае, в Кноссе и Фесте, – были насажены сады, за которыми можно было видеть красивые пейзажи.
Властители Феста, впрочем, вряд ли использовали свой обширный дворец для проживания. Для этой цели они предпочитали красивый загородный дом, расположенный в часе пути к западу от дворца, в месте, которое по имени расположенной по соседству маленькой церквушки называется Агиа-Триада (Святая Троица). Обе резиденции расположены на высоких холмах. Из окон открывался великолепный вид на равнину. Из загородной виллы в Триаде можно было, кроме того, видеть просторы открытого моря, а покои овевал свежий морской ветер.
Густонаселенными и обширными были города, прилегавшие к дворцам. В Кноссе дворец был окружен домами знатных людей, к которым дальше примыкали жилища простолюдинов. На окраине города располагались районы захоронений. В Фесте дворец стоял на склоне высокого холма, господствуя над окружающей местностью. У подножия холма в беспорядке теснились жилища горожан. В Маллии дворец был окружен пустырями и частными строениями, гробницы располагались в прибрежных скалах, а гавань – на примыкавшем к ним песчаном пляже.
О том, как строились частные жилища в минойских городах, мы узнали на примере Гурнии, города в восточной части Крита, города, половина которого была раскопана американскими археологами. Кривые улочки петляли между небольшими, но, как правило, двухэтажными домами. По найденным в Кноссе табличкам из фаянса и слоновой кости, на которых изображены эти строения, мы можем составить представление о том, какой была планировка таких городов. В Гурнии в центре была расположена обширная четырехугольная площадь. Правда, здесь не было даже скромного «дворца», который обрамлял бы площадь. Здание дворца образовывало только северную границу площади.
Известны нам и другие, многочисленные населенные пункты того времени – по большей части мелкие городки на востоке острова. При этом дома знатных людей украшали разнообразные фрески. Недавно большое здание того времени было обнаружено в Вафипетроне. Похоже, что речь в данном случае идет о дворце, который по каким-то причинам остался недостроенным и поэтому использовался исключительно в хозяйственных целях.
Нередко обнаруживают на Крите и остатки инженерных сооружений – мостов, канализации и водохранилищ, но нигде не было найдено ни одной крепости или укрепления. Следовательно, жители Крита в первом позднеминойском периоде снова чувствовали себя в безопасности, а весь период был исполнен миром и покоем. Во главе критских династий того времени стояла жреческая монархия. Однако безраздельное господство на море было уже утрачено. Криту пришлось смириться с соседством набиравших силу Микен и прилагать массу усилий, чтобы сохранять с ними приемлемые отношения. Временами отношения между царями Крита и Микен бывали даже дружественными.
Правда, царям Кносса удалось даже восстановить прежние отношения с Египтом. Во время правления царицы Хатшепсут и Тутмоса III, обоих великих властителей восемнадцатой династии, Крит и Египет обменивались послами и взаимными подарками. На стенах гробниц египетских вельмож минойские послы неизменно изображались как «данники», но мы знаем, что речь шла просто об обмене товарами.
Задолго до археологических открытий мы начали пользоваться минойскими собственными именами и минойскими словами, обозначавшими те или иные культурные явления. Эти слова заимствовали у критян еще древние греки. Они называли ванну asaminthos; в греческий язык проникли названия некоторых известных растений, например terebinthas – сосна; hyakinthas – гиацинт или narkissos – нарцисс; имя легендарного правителя Радамант, название Кносского дворца – Лабиринт, а также названия критских городов – Тилисс, Кносс, Ретимн. Суффиксы этих слов указывают на то, что минойский язык принадлежал к группе эгейских языков. Естественно, в лексике критского языка можно различить и некоторые другие компоненты, и прежде всего египетские.
К этим собственным именам и культурным словам в новейшее время присоединились и другие языковые памятники. Как нам стало известно в результате проведенных в последние годы раскопок, на Крите по меньшей мере в эпоху древних дворцов уже была известна письменность. Возможно даже, что ее начало восходит к эпохе ранней бронзы. Послужили ли толчком к изобретению письма египетские влияния или, что более вероятно, малоазийские, нам пока неизвестно. Речь идет о пиктографическом письме, знаки которого первоначально произвольно использовались для обозначения слов (то есть были идеограммами), которые впоследствии постепенно превратились в обозначения слогов – гласных и открытых (то есть сочетания согласной и гласной).
Уже во времена древних дворцов в практическом применении этого письма в документах о торговых сделках и обменах идеограммы стали заменяться «линейными» формами, знаками, иллюстративное и графическое содержание которых было утрачено и которые можно было наносить или вырезать несколькими простыми штрихами. Систему письменности из таких отточенных знаков мы обозначаем как линейное письмо А. Некоторое время пиктографическое письмо сосуществовало на Крите с линейным письмом. Отдельные придворные хозяйства имели свои особенные школы письма, в которых применение пиктографических знаков незначительно отличалось между собой. В то время появились уже штемпельные печати, с помощью которых можно было выдавливать пиктографические значки на мягкой глине. Именно таким, первым в истории человечества, печатным способом был выполнен текст на знаменитом диске из Феста. Предположение о том, что этот замечательный памятник письменности происходит из Малой Азии, не соответствует фактическому положению вещей.
С XVII века до н. э. пиктографическое письмо встречается на Крите все реже и реже, и к XVI веку до н. э. его полностью вытесняет линейное письмо A. В то время как все остальное население Крита осталось верным линейному письму A, в Кноссе – мы не знаем точно, когда именно – была проведена реформа письменности. Основные знаки, и именно те из них, что встречались чаще других, сохранились и, более того, видимо, сохранили и свое фонетическое качество. Однако некоторые знаки были упразднены, и в ряде случаев вместо них были введены новые. Так возникла система письма, которую мы обозначаем как линейное письмо B. Это письмо было потом перенято микенскими греками, а в 1952 году оно было расшифровано Майклом Вентрисом.
Если верно предположение о том, что греки, переняв линейное письмо B, существенно не изменили фонетические значения символов, то можно перебросить мост от фонетических значений греческого линейного письма B к минойскому линейному письму B, а от него к линейному письму A. Чего нам при этом не хватает, так это фонетического значения тех знаков письма A, которых нет в линейном письме B. Правда, в настоящее время Арне Фурумарк пытается с помощью формально-логической обработки исследовать вероятности звучания всех знаков линейного письма A.
К сожалению, мы все равно не в состоянии понять даже прочитанные тексты, так как не владеем минойским языком. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты со всей отчетливостью демонстрируют, что между греческим языком, а также между ранней ступенью микенского диалекта греческого языка и минойским языком нет ничего общего.
У некоторых народностей можно наблюдать, что женщина, а в особенности мать, занимает выдающееся место в семье и в общественной жизни. Например, особую важность придают материнскому происхождению и род ведут не от отца, а от матери-родоначальницы. При выборе супруга и в делах наследования женщина сохраняет преимущественное право, а духовный климат в большой степени определяется женскими чувствами и женским вкусом. Материнство и плодовитость накладывают глубокий отпечаток на представления, основываясь на которых формируют понятие о богах.
Там, где в более или менее закрытых общественных системах господствует описанная система отношений, мы говорим о «матриархате» или о «материнском праве». Оба термина неудовлетворительны, однако мы пользуемся ими за неимением лучшего. В любом случае надо отдавать себе ясный отчет в том, что даже в матриархальном обществе господствующее положение занимали, как правило, отнюдь не матери, а цари-мужчины, и речь может идти только о весьма небольшом сдвиге условий общественной жизни в пользу женского главенства. О лишении реальной власти в земных делах мужского элемента не может идти речи. Только среди богов и в мифологии при некоторых обстоятельствах могущество и сила подчеркнуто передаются женщине.