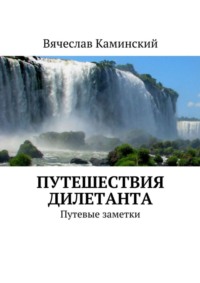Czytaj książkę: «Путешествия дилетанта. Путевые заметки», strona 3
Субъективные заметки о замках Луары

БЛУА
Пожалуй, ни один другой из замков Луары, в коих нам посчастливилось побывать, не отвечает более всего названию этих субъективных заметок, как королевская резиденция Блуа. Не зря же мы ее оставили на закуску… Вот уж где действительно страсти кипели, а какие интриги тут плелись… Ни папе Дюма рассказать, ни Морису Дрюону описать…
Хотя поначалу жизнь замка ничего зловещего и интригующего не предвещала. Ну стояла себе на скалистом утесе, омываемом водами Луары небольшая крепость еще с IX века, а может, и того раньше. Ну жили здесь ни тужили графы Блуа, пока одному из них не вздумалось продать этот симпатичный замок некому герцогу Луи Орлеанскому, между прочим сыну французского короля Карла V. Уж больно тому место понравилось, нам, кстати, тоже. Красиво. Но долго полюбоваться на живописные окрестности Блуа герцогу не удалось. Поскольку он был подло убит при невыясненных обстоятельствах приверженцем герцога Бургундского. Правда, не здесь, а в Париже. А вот благодаря его сыну Шарлю или, как мы привыкли его называть, Карлу Орлеанскому Блуа приобретает известность, как место для поэтических ристалищ. Карл, то бишь Шарль, всяческим рыцарским турнирам предпочитал словесную перепалку, поскольку и сам преуспел на поэтическом поприще, являясь в настоящее время классиком французской поэзии. Особо его поэтический дар проявился в плену у англичан, куда бедный Карл угодил после неудачной битвы при Азенкуре. Долгих 25 лет из всех радостей Шарлю, то бишь Карлу, приходилось довольствоваться лишь поэтическим творчеством, французский король Людовик XI не очень-то спешил его выкупить из английского плена. Так что в Блуа Шарль вернулся, уже в солидном возрасте, когда ему перевалило за 45 лет… Но тем не менее успел—таки еще три раза жениться и даже познать радость отцовства, став впервые папой в… 68 лет. Правда, сам король, Людовик XI сильно сомневался в том, что отцом его тезки Людовика Орлеанского, а именно так своего первенца назвал счастливый граф, является не отличавшийся-то и в молодые годы сильным здоровьем стареющий Карл. Впрочем, может, его сомнения были и напрасны, ведь последней супруге Карла, когда он взял ее в жены, было всего 14 лет. А молодость, как известно, может творить чудеса.
Впрочем, мы несколько отвлеклись от нашего повествования. Ведь нам Карл Орлеанский прежде всего интересен не своими мужественными поступками, а тем, что благодаря своей тяге к возвышенному сделал свой замок Блуа своеобразным центром французской поэзии и искусства. Это здесь, в этих стенах, он устраивал празднества, театральные представления и поэтические состязания. Это здесь, в небольшой, но очень уютной зале с дивными витражами, кои мы с интересом рассматривали, он состязался с самим Франсуа Вийоном, только что благодаря милости короля избежавшим виселицы, в поэтическом мастерстве. И надо же, чтобы баллада бродяги (в переводе Ильи Эренбурга), на тему «От жажды умираю над ручьем», заданную самим Карлом Орлеанским, победила в этом поэтическом ристалище и теперь известна всем любителям словесности под названием «Баллада поэтического состязания в Блуа». Невольно хочется процитировать хоть несколько строф из этой гениальной баллады:
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошёл, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Ну и так далее… Здесь, под сводами замка стихи эти читались особенно выразительно. По крайней мере, мне так казалось…
Но опять же не Карл Орлеанский, а его сын, Людовик, герцог Орлеанский и граф де Блуа, когда уже стал королем Франции Людовиком XII, сделал сей симпатичный городок столицей государства. А замок, некогда напоминавший древнюю цитадель, превратил во дворец. Именно с флигеля Людовика XII мы и начали свое знакомство с замком. Надо сказать, что этот король-реформатор, сохранивший за собой титул «отца народа», революционно подошел и к перестройке своих королевских владений. Даже не верится, что это изящное легкое здание с широкими окнами, ажурными балкончиками и прогулочными галереями было построено всего за три года. Особым украшением фасада флигеля стала конная статуя Людовика XII и геральдическая эмблема – дикобраз – символ короля. Тут же на белокаменных колоннах, украшающих парадную лестницу флигеля, выгравированы инициалы и эмблемы владельцев замка: цветки лилий – символы короля, горностаи – королевы Анны Бретонской. Да-да, той самой Анны, что была женой короля Карла VIII, помните, о нем я рассказывал, когда прогуливался по замку Амбуаз. В этом самом замке в возрасте 28 лет (о чем я уже также писал) он и помер, ударившись головою о дверной косяк. Именно его кончина, поскольку наследников у него не оказалось, несмотря на то, что Аннушка за семь лет их супружеской жизни семь раз была беременна, позволила герцогу Орлеанскому стать королем Франции и, расторгнув брак с нелюбимой женой Жанной, к слову, родной сестрицей Карла VIII, жениться на его вдове. В последующие девять лет их супружеской жизни королева родила ему двоих дочерей и двоих сыновей, но оба мальчика умерли в младенчестве. Столь частые беременности вконец истощили некогда красавицу Анну и она скончалась. Тогда Людовик женился в третий раз на молодой английской принцессе Марии. Но этот новый брак только подорвал его силы и через два месяца после свадьбы король умер, так и не оставив престолонаследника.

И тут на арену выходит наш несравненный король – созидатель Франциск I. Тот самый, кому в первую очередь и принадлежит заслуга по преобразованию замков Луары во дворцы. Вообще-то он был всего лишь двоюродным братом Людовика XII, но вовремя сообразил обручиться с его дочерью, когда ей было… 7 лет и жениться ровно за год до смерти своего тестя. Свои архитектурные идеи Франциск впервые воплотил именно здесь в Блуа. Это его флигель, который он строил целых 15 лет для своей милой жены Клавдии, прямо со дня свадьбы и которая к моменту завершения строительства успела уже помереть, по праву является главным украшением замка. Не зря же он считается одним из самых первых шедевров Ренессанса. Особенным украшением его стала винтовая с большими проемами лестница, очевидно, к этому архитектурному элементу король был особенно неравнодушен. Возможно, Франциск еще что-нибудь создал в Блуа, но после смерти своей жены Клавдии отправился воевать, но не очень удачно и даже угодил в плен… После которого ему в Блуа больше возвращаться не захотелось и он стал возводить другие замечательные замки вдоль долины Луары, о чем я уже также писал…
Однако Блуа еще долгие годы был главной королевской резиденцией. Особенно во времена Генриха II и его жены Екатерины Медичи, прожившей в замке около 50 лет… Именно в эти времена здесь происходили самые злодейские и кровавые разборки. Екатерина Медичи не только со вкусом украшала замок, и сегодня здесь можно увидеть богатую коллекцию гобеленов и картин, собранных этой любительницей красоты, но и напичкала дворец всякими потайными комнатками, подземными казематами, где мучили, пытали и казнили неугодных… Осматривая рабочий кабинет Екатерины мы пытались разгадать как, с помощью каких хитроумных приспособлений и педалей королева прятала за резными деревянными панно, украшающими стены комнаты, шкафчики для драгоценностей, ценных бумаг и… ядов, коими, по крайней мере, так утверждает Александр Дюма, травила своих врагов. Да и другое забавное приспособление с помощью которого в полу кабинета открывались отверстия и несчастные проваливались в подпол, мы также не обнаружили. Зато в покоях сыночка Екатерины Медичи – Генриха III, также не отличавшегося особым благородством, мы со всеми подробностями смогли лицезреть коварное убийство герцога де Гиза, которое случилось на пороге спальни короля более четырехсот лет тому назад… Здесь, на небольшом экране в режиме нон-стоп демонстрируется фильм, который так и называется: «Убийство герцога де Гиза», поставленный еще в 1908 году Андре Кальметом и Шарлем Ле Баржи. Знаменитые актеры театра Комеди Франсе под первую в истории киномузыку, написанную Камилем Сен-Сансом, разыгрывают историю убийства по приказу короля Генриха III его политического соперника герцога Генриха де Гиза. Надо сказать, что фильм этот и сегодня производит впечатление. Не зря же его принято считать первым художественным фильмом.
Вообще эта зловещая история в Блуа весьма и весьма растиражирована. Помимо вышеназванного фильма, в спальне Генриха III мы видели еще несколько картин разных художников, изображающих сие роковое убийство. Но, пожалуй, самым кульминационным моментом драмы, случившейся здесь, стало вечернее свето-музыкальное шоу, «О чем поведал Блуа», где с помощью различных спецэффектов стены замка меняли свои очертания и на них проступали образы легендарных личностей, связанных с историей этого замка: Карла Орлеанского, Франсуа Вийона, Екатерины Медичи, ну и, конечно же, Генриха де Гиза, убитого по указанию Генриха III, куда ж без этого.

Похозяйничал в замке и брат короля Людовика XIII, Гастон Орлеанский. Сосланный сюда как вечный заговорщик, он жаждал кардинально перестроить его, прихватив для этих целей начинающего архитектора Франсуа Мансара. Но, как обычно, быстро охладел к своей идее и до конца работы не довёл. Но и то, что успел создать, – не может не восхищать… Останавливалась на постой в замке Блуа и Орлеанская дева – Жанна д`Арк… со своими солдатами. Еще не раз замок этот менял своих хозяев, перестраивался. Последним крупным событием в его жизни стал приезд сюда Людовика XIV, закатившего в замке бооольшой бал…
Сегодня это целый комплекс, объединяющий вокруг внутреннего двора четыре крыла, четырех разных эпох и четырех разных стилей. Каждое из которых можно осматривать часами.
Это был наш последний замок на пути из Калининграда в долину Луары. Он стал заключительным аккордом в этом увлекательнейшем путешествии. Которое, я надеюсь, мы еще продолжим. Ведь сколько прекрасных замков Луары, расположившихся здесь, мы не успели посетить…
Итальянское каприччио
или Возвращение на Гарду

Несколько лет назад, совершая поездку по Италии, я открыл для себя дивное место – озеро Гарду. Нет, я, конечно, знал о его существовании и раньше. Как-никак самое большое озеро если не в Европе (здесь оно занимает всего лишь почетное четырнадцатое место), то уж в Италии точно, а уж по красоте, думается, ему и равных в мире нет. Хотя, конечно, это дело вкуса.

И, возможно, кому-то более по сердцу совсем другие ландшафты. Но, согласитесь – огромная гладь озера с кристально чистой водой, обрамленная альпийскими горами со снежными вершинами и поросшими густой растительностью склонами, золотые песчаные пляжи, буйство зелени, красок, ароматов, словно природа собрала здесь все самое лучшее, не могут не вызвать восхищения. А многочисленные небольшие и очень уютные городки и деревушки с неповторимой архитектурой и колоритом, густо облепившие озеро, просто манят в свои узкие улочки, в которых так хочется заблудиться и остаться навсегда… И это говорю вам не только я. Еще ранее то же самое, но, естественно, лучше и поэтичнее, говорили об этих чудных местах и Гете, и Байрон, и Диккенс, и другие классики мировой литературы. А древнеримский поэт Катулл, тот вообще еще до нашей эры высказывался весьма категорично, что лучше Гарды, и в частности городка Сирмионе, места в мире нет… Ну, об этом Сирмионе я еще расскажу… попозже. Ибо сначала я увидел не его, а другой не менее чудный городок Бардолино в окружении олеандров и кипарисов, с роскошными виллами и пляжами, оливками и лаврами, виноградниками и винными погребками, в коих прятались одни из лучших марок италийского вина Бардолино… Того самого рубинового, с легкой горчинкой Бардолино, кое ценили и Цезарь, и Кассидор, ну а теперь еще и я. Между прочим, для ценителей сего напитка в Бардолино создан даже специальный «Винный маршрут», следуя по которому можно не только хорошо надегустироваться, но и познать всю мудрость и таинство приготовления сего божественного напитка. «Бьянко ди Кустоза», «Лугана», «Кьяретто», «Новелло». Каждое такое название звучит как песня… которую хочется петь. И пить тоже хочется. В меру, естественно, в соответствии с рекомендациями древнеримских сибаритов.
Впрочем, я что-то отвлекся. Просто до сих пор не могу забыть того моего первого кратковременного пребывания на брегах Гарды, столь восхитившего меня. И так захотелось вновь сюда вернуться, но не мимоходом, направляясь к другим не менее замечательным достопримечательностям Апеннинского полуострова, а хотя бы на недельку… дабы в полную меру насладиться красотами этого дивного озера и его не менее дивных окрестностей. И вот, воспользовавшись волшебной силой интернета, я забронировал номера аж в трех отелях: в Сирмионе, в Лацизе и в Дезенцано. Купил билет на самолет в Милан, где опять же благодаря современным средствам коммуникации меня уже ждал маленький, но достаточно шустрый «Фиат-500». Возможно, будь я чуть потолще или повыше, то вряд ли бы втиснулся в это чудо техники итальянского автопрома, дизайн коего сотворил великий Армани. А так места хватило еще и жене, и нашему скромному скарбу. Оказалось, что эта белая «божья коровка» с огромными, как глаза у испуганного лемура, фарами, еще и едет… И довольно-таки прытко. В этом я убедился уже по возвращении домой, когда с моей кредитки неизвестные итальянские гаишники дважды сняли по 70 евро за якобы превышение скорости. Ну да бог с ними, ведь в тот момент, когда я оседлал это четырехколесное насекомое, мне нетерпелось как можно быстрее добраться до места назначения… То есть на Гарду.

Но и Милан посмотреть мне тоже хотелось. Пускай не весь, пусть поверхностно, пусть, как говорят, одним глазком… Но как, скажите, быть в Милане и не увидеть главную достопримечательность (да простит меня великий Леонардо со своей «Тайной вечерей»), это чудо света – Домский собор. Или, как его величают сами миланцы, Дуомо. Никак! Такого себе никто не может позволить. И я тоже не смог… даже несмотря на то, что нам еще нужно было затемно добраться до славного городка Сирмионе… Но увиденная картина нас просто повергла в ступор… и мы поняли, что так скоро отсюда не уедем…
Вряд ли стоит особо говорить о том, что этот построенный из белого мрамора в стиле пламенеющей готики собор является пятой по величине церковью в мире, или о том, что при его возведении, начатом, к слову, в 1386 году, консультантами (правда, чуть позже лет этак на 150) выступили такие всемирно известные мэтры эпохи Возрождения, как Браманте и Леонардо, предложившие разбавить готику, пусть и пламенеющую, более современными для того времени ренессансными штучками… И даже о том, что свой окончательный вид собор приобрел лишь во времена Наполеона, который, желая в нем короноваться, лично заказал тогдашнему архитектору Амати украсить фасад здания, выходящего на площадь, «каменным лесом» из 135 мраморных игл, устремленных в небо… Об этом столько написано, что грех повторяться… Поэтому я лучше опишу наши чувства и эмоции, которые в тот момент просто зашкаливали. Первые пять минут мы лишь зачарованно взирали на эту бело-розовую ажурную глыбу в немом оцепенении, опьяненные всей мощью чудо-собора, взметнувшегося ввысь множеством шпилей, ос-троконечных башенок и колонн… Причем каждая из башен собора, коих, как я уже говорил выше, насчитывалось 135 штук, венчается статуей. Меня раздирало любопытство, как их туда взгромоздили, ведь каждый такой шпиль был высотой под 100 метров, я уж не говорю о главном, самом высоком, венчающимся позолоченной статуей Мадонны… Тот вообще почти 110 метров! Увы, почему-то об этом непростом занятии я так нигде и не прочел. Может, плохо искал…
Вдоволь налюбовавшись общим видом собора, мы подошли к нему чуть поближе, дабы перейти к его более подробному осмотру. И, как говорят «юзеры», «зависли»… Все стены собора оказались буквально облеплены мраморными скульптурами, говорят, их насчитывается 2245. Тут были и статуи святых, и разнообразные сцены из библейских сюжетов, и неведомые животные невиданной красы, и множество скульптурных портретов миланской знати, скорее всего, тех самых бескорыстных спонсоров, пожертвовавших свои скромные сбережения на строительство собора и тем самым увековечившие свои благородные лики. Рассматривать эти скульптурные композиции можно было бесконечно…

Но, помня о пути нашего следования, мы вынуждены были прервать сие эстетическое занятие, тем более что нам хотелось увидеть еще одно также весьма занятное сооружение – замок Сфорца – резиденцию миланских герцогов, многие годы правящих Миланом. Конечно, тяжелые мрачные стены замка с приземистыми шишковатыми башнями, обрамляющими его по периметру, глубокие рвы, некогда заполненные водой, а ныне заросшие травой, не могут сравниться по красоте и изяществу с Домским собором, но некогда эта неприступная крепость защищала город от непрошенных врагов. Была она и герцогской резиденцией. Этим угрюмым стенам и башням пытались придать более привлекательный вид служившие герцогу Франческо Сфорца Леонардо да Винчи и Браманте, перестроившие замок. Чего только не пережил он за минувшие годы: и вторжение французского короля Людовика XII, и захват испанскими наместниками, и наполеоновские войны… Увы, до наших дней от тех роскошных интерьеров замка, что были созданы во время правления Миланом герцогом Франческо Сфорца почти ничего не осталось… Ведь за минувшие столетия замок этот был и казармой, и госпиталем, и таверной, и… овощехранилищем. Залы, расписанные великими Леонардо и Браманте, были превращены в подсобные помещения… Но даже в таком изуродованном виде замок впечатляет: просторная и по-своему изящная внутренняя площадь крепости, уютные дворики, патио – все это очень симпатично… Жаль только, что фресок Леонардо я так и не обнаружил… А ведь, говорят, они там где-то еще прячутся и ждут своего часа, когда пытливые археологи и реставраторы явят их миру. Зато нам посчастливилось узреть другой, правда, неоконченный шедевр великого творца – Микеланджело. Прямо здесь, в одном из крытых двориков зам-ка, стоит его последняя скульптура «Пьета Ронданини». И это стоит видеть. Гуляя по замку, я все думал – что же он мне напоминает? Ну конечно же, наш московский Кремль! И это неспроста – оказывается, миланские зодчие, приглашенные в Россию для строительства московского Кремля, взяли за основу замок Сфорца. Форму его башен, корону зубцов, венчающих стены крепости… Впрочем, точно такие же зубцы на крепостных стенах я видел и в Вероне, и в Мантуе, и в Лацизе, и даже в Сирмионе, куда я еще должен был только попасть…

Часть 2

Удивительное создание человек. С одной стороны, он тянется к прекрасному, величественному, вечному… Выстраивает длиннющие очереди, дабы взглянуть в глаза загадочно ухмыляющейся Джоконде, жаждет встречи со всеми двенадцатью соратниками Христа, тайно трапезничающими со своим мудрым наставником за одним общим столом в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие (к слову, чтобы лицезреть сию культовую фреску Леонардо, надо загодя записаться на ее просмотр), а с другой – штурмует бутики и лавочки с мировыми брендами: Armani, Versace, Corneliani… испытывая от этого не меньший, если не больший восторг. А представьте, когда все эти Gucci, Prada, Louis Vuitton находятся в одном флаконе, то бишь в Галерее Виктора Эммануила II, крупнейшем европейском пассаже, то здесь можно прийти не только в восторг – в экстаз. Особенно когда видишь ВЕЩЬ, созданную каким-нибудь культовым Кутюрье и сознаешь, что ты только и можешь, что ее зреть, а вот маять ее будут совсем другие ценители прекрасного… Впрочем, сия галерея и сама по себе произведение искусства с гигантскими мозаичными панно, олицетворяющими почему-то только четыре континента – про то, что кроме Евразии, Африки и двух Америк есть еще и Австралия, не говоря уж про Антарктиду, миланские зодчие почему-то запамятовали. Но все равно красиво. Все эти полуобнаженные аллегорические фигуры, символизирующие искусства, науки и даже земледелие с промышленностью, взмывшие под самый купол галереи, смотрятся очень даже эффектно. Так что сидя в одном из кафе, расположившемся здесь же, под прозрачным стеклянным куполом Галереи Виктора Эммануила II, и попивая чудный миланский кофе, мы с женой неспешно созерцали эту красоту спокойно, без вздохов, истерик и заламывания рук, сознавая, что все эти утренние, вечерние и дневные туалеты, все эти шляпки, сумочки, туфельки и портмоне, выставленные в витринах многочисленных бутиков, являются всего-навсего экспонатами еще одного миланского музея под громким названием Высокая мода.
Впрочем, что это я все про Милан да про Милан, ведь конечной целью нашей поездки было прекрасное и несравненное озеро Гарда до коего, как оказалось, от галереи Виктора Эммануила II рукой подать… Так что через час с небольшим как мы покинули Дворец Моды, наш шустрый «фиатик» уже подъезжал к перекидному мостику – единственной дороге, соединяющей славный город Сирмионе с остальным миром. Причем въезжали мы в него через ворота Замка Скалигеров. Окруженный со всех сторон водами озера Гарда, он сразу же поразил нас своей красотой и изяществом. Это был нереальный, сказочный замок с толстыми крепостными стенами, украшенными короной «кремлевских» зубцов, сторожевыми башнями, перекидными мостиками и множеством внутренних водоемов, в которых плавали дикие лебеди. Стены замка уходили далеко в озеро. Вода его окружала и снаружи, и внутри, отчего замок смахивал на могучий корабль, плывущий по синей глади Гарды. Это был достойный страж тогдашних правителей Вероны Скалигеров, защищавших свои владения от нападок Милана. Вообще эти Скалигеры весьма серьезно занимались обороной родимого края, застроив всю Ломбардию неприступными крепостями. Замки Скалигеров я видел и в Вероне, и в Мальчезино, и в Лацизе… Но, поверьте, ни один из них, даже тот, что в Вероне, не может состязаться по красоте с тем замком, что мы увидели в Сирмионе.

Сегодня он не только главный страж этих мест, но и главная достопримечательность. Торжественно возвышаясь над буйными кронами пышных магнолий, стройных кипарисов и тысячелетних олив, замок этот стал неким символом не только крошечного Сирмионе, но и всей Гарды в целом. Впрочем, здесь и без замка было на что посмотреть… И это при том, что в длину город протянулся аж на 4 км, а в ширину и того меньше, на несколько сотен метров. Да и проживает в Сирмионе по официальным данным чуть более 5000 человек. Правда, когда мы на своем миниатюрном «фиатике» попытались протиснуться по о-о-очень узеньким улочкам к своему отелю, то у меня возникло сомнение в достоверности официальных источников. Мы двигались в нескончаемом людском потоке изумленных, но дружелюбных итальянцев, отчего давить их было особенно жаль, удивляясь, откуда их столько взялось… Впрочем, то, что итальянцы, как и представители других некоренных народов, величают этот крошечный городок, нет ничего удивительного, ведь Сирмионе завоевал огромную популярность еще с древнеримских времен, когда сюда из близлежащей Вероны приезжали знатные особы и особи, дабы подлечиться от разных недугов в бьющих прямо из-под земли термальных источниках… ну и, естественно, повеселиться тоже они сюда приезжали… Одна вилла Катулла (или грот – кому как нравится) чего стоит. И не важно, что, быть может, этот древнеримский архитектурный комплекс площадью 17,5 тысячи квадратных метров Катуллу никогда и не принадлежал, а назван так лишь потому, что расцвет творчества этого выдающегося поэта периода заката республиканского Рима напрямую связан с Сирмионе, коему Гай Валерий Катулл Веронский посвятил немало возвышенных строф. Но то, что на этом самом полуострове Гай Валерий бывал неоднократно, а может, даже и жил, а может, даже и любил свою прекрасную и загадочную Лесбию, имеется немало косвенных свидетельств, а его многочисленная родня, и это уж точно документально подтверждено, владела приличной недвижимостью в Сирмионе, что, в общем-то, позволяет нам как бы предположить – а может, эти грандиозные развалины и есть скромное жилище поэта.

Увы, науке достоверно неизвестно, принадлежала ли сия вилла Катуллу или нет. Да это и не важно… Куда интереснее просто пройтись по этим историческим развалинам. Мимо античных аркад, гротов, райских трифор, криптопортиков… Восхититься Залом гигантов, даже несмотря на то, что от него почти ничего, кроме названия, не осталось. Но даже эти чудом уцелевшие громадные валуны при хорошем воображении позволяют довольно-таки полно представить масштабы и величие этой, с позволения сказать, виллы. По ее обширной территории, заросшей оливами, можно часами бродить и находить что-то новое, неожиданное: фрагменты фресок, обезглавленные и обезрученные скульптуры, обломки колонн, черепки разбившихся много веков назад амфор, непонятные надписи на полуразрушенных стенах. А какие изумительные виды на озеро, по которому то и дело снуют быстрые кораблики, открываются отсюда! Ну и, конечно же, нельзя пройти мимо довольно-таки вместительного бассейна, правда, без воды, в котором Катулл или если не он, то его современники, принимали термальные ванны. Причем, нельзя не восхититься прогрессивным мышлением тогдашних проектировщиков бассейна, вода в котором подогревалась струями горячего воздуха, пущенного под его настилом. Да, думается, именно здесь, плескаясь в этой вместительной ванночке с хитроумно подогретой минералкой, Катулл, если он тут, конечно, жил, написал эти восхитительные строфы «Ты полуостров и остров Солнце, Краса озерных гладей и морских Хлябей, Нептуном правимых, о, родина, Сирмий! Как счастлив я, как весел, что тебя Вижу
Но даже если Гай Валерий жил вовсе и не здесь, а на какой-нибудь другой вилле, скажем, у своего папы-патриция, которого как любящий сын он регулярно навещал, то и это ни в коем случае не умаляет его чувств к острову Солнце – Сирмии или, как мы теперь называем, Сирмионе. Напротив, восхитительные строфы древнеримского пиита выражают и мои искренние чувства к этой «красе озерных гладей». И я вслед за Катуллом Веронским, стоя на высоком берегу Гарды, преисполненный переполняющими меня чувствами, изрек: «Как счастлив я, как весел, что тебя Вижу! И вот что характерно, такой неподдельный восторг и райское наслаждение при посещении этих мест испытали не только мы с Катуллом, но и другие прославленные личности: Иоганн Гете, например, или Райнер Мария Рильке… А Джозуэ Кардуччи, национальный поэт Италии (лауреат Нобелевской премии, между прочим), тот вообще посвятил Сирмионе целый цикл стихов. За что и удостоился впоследствии быть увековеченным в названии одной из главных улиц этого чудного городка. Да и греческая примадонна Мария Каллас предпочитала отдыхать и вживаться в образы своих оперных героинь не на каком-нибудь Миконосое или Родосе, а здесь, в Сирмионе, приобретя для этих целей роскошную виллу. Ее можно видеть и сейчас, правда, за забором, вдоль которого фланирует немало любопытствующих, жаждущих заглянуть во внутренний мир великой певицы. К слову, вилла Каллас располагается буквально в двух шагах от Терм Катулла. Хотя Катулл тут уж точно ни при чем. Это скорее всего маркетинговый ход нынешних владельцев одного из самых популярных в Европе СПА-центров. Думается, назови его по-другому, он все равно был бы не менее популярен. Ну, в самом деле, представьте себе эту идиллическую картину: прохладным летним, осенним, зимним или весенним вечером нежиться в теплых, насыщенных серой, бромом, йодом, хлористым натрием, магнием, цинком и другими элементами периодической таблицы Менделеева минеральных водах, весьма способствующих нашему с вами выздоровлению, и любоваться изумительным по красоте закатом тонущего в иссиня-черных водах Гарды солнца… А когда его последние сполохи озарят рубиновые облака и термы Катулла погрузятся в кромешный мрак, зажгутся сотни фонариков, преобразив его водную гладь в лучащийся и переливающийся отраженным светом таинственный и загадочный мир. К тому же бассейн сконструирован таким образом, что при желании в нем можно уединиться влюбленным парочкам в какой-нибудь полутемной кабинке… Ну чем не места для поцелуев?! Ну а вдоволь наплававшись и нацеловавшись, можно и попариться в разных парилках, принять солевые, гидромассажные и прочие ванны, расслабляющие процедуры. И ощутить себя на седьмом небе.

Да, Сирмионе, как сказал поэт, краса озерных гладей, коим можно любоваться бесконечно, гулять по нему, отдыхать, принимать водные и прочие процедуры и быть счастливым. И это несмотря на то, что Сирмионе – самый маленький город на Гарде. Есть еще и другие: Лацизе, Мальчезино, Барделино, Гарда, Дезенцано… Это те, которые я посетил. А сколько тех (и их гораздо больше), которых не увидел! И все они по-своему интересны и привлекательны. Со своей дивной природой, многовековой историей и особым, характерным только для Гарды шармом, который притягивает к себе, зовет, заставляет любить эти места, восхищаться ими и делает нас поэтами. Как Катулла.