Личное дело.Три дня и вся жизнь
Tekst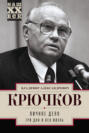


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 860 str.
- Kategoria: literatura faktu, reportaż, biografia, wojskowość, siły specjalne
В последнее время с этим стали считаться и наши противники, из арсенала даже самых жестких и беспардонных спецслужб, к числу которых я отношу прежде всего спецслужбы США и ФРГ, мало-помалу стали исключаться наиболее бесчеловечные методы работы. Думаю, что в перспективе они вполне могли бы уступить место более цивилизованным формам борьбы!
До самого последнего времени идут споры о том, следует ли смешивать разведывательную деятельность с политикой. Мне подобные споры представляются беспредметными и даже странными. Разведывательная деятельность – это неотъемлемая часть политики, но ведется она особыми, специфическими средствами и способами, и поэтому всю полноту ответственности за нее должны нести политики, руководители страны самого высокого уровня. Назначение в свое время Буша, бывшего председателя Национального комитета Республиканской партии, на пост директора ЦРУ подтвердило, по крайней мере в США, как правоту такой точки зрения, так и плодотворность тесного переплетения разведывательной и политической деятельности.
Выступая в Нью-йоркском клубе коммерческого факультета Гарвардского университета, Буш-старший признавал, что «тайная разведывательная деятельность необходима как альтернатива посылке морских пехотинцев». Еще более примечательны на этот счет высказывания Киссинджера. «Наша политика по установлению более рациональных и надежных отношений с Советским Союзом, которую принято называть разрядкой, – говорил он, – оказалась бы невозможной без надежных разведывательных данных». И еще: «Деятельность разведок имеет решающее значение для будущего нашей страны… Не имея эффективного разведывательного потенциала, Соединенные Штаты окажутся ослепленными и беспомощными».
Другой вопрос, какими методами действует разведка. Убийство неугодных политических и общественных деятелей, организация заговоров, переворотов, экономический саботаж и блокада и другие такого рода способы были взяты на вооружение многими спецслужбами капиталистических стран, в том числе и Соединенных Штатов, что в общем-то и не скрывалось. Бывший директор ЦРУ Колби в 1976 году признавал, что возглавляемая им американская разведка пыталась организовать покушение на Фиделя Кастро, но это не удалось.
В последнее время американские официальные лица говорят в открытую об организации не одного десятка покушений на Ф. Кастро, причем это преподносится как нечто обычное, соответствующее нормам международной жизни. Более того, высказывается сожаление по поводу этих неудавшихся попыток физически убрать кубинского лидера, поскольку удачное покушение сняло бы многие проблемы для США.
Американская сторона не без гордости признает факт своего участия в свержении режима Альенде в Чили, вмешательство в дела на Гренаде, в Панаме, в ряде других латиноамериканских, африканских, азиатских, арабских стран. На все эти акции, называемые тайными, с согласия высшей исполнительной и законодательной власти выделялись специальные средства.
Такая практика идет еще со времен Даллеса, считавшего, что «в тоталитарном государстве убийство может оказаться единственным средством для свержения современного тирана». Разумеется, право решать, какое государство считать тоталитарным, а какого руководителя – тираном, автор этих слов целиком присваивает себе.
В 1976 году известный американский политолог Тейлор Бренч на страницах журнала «Нью-Йорк таймс мэгэзин» утверждал: «Достопочтенные джентльмены из ЦРУ разрабатывали планы убийства неугодных деятелей вместе с гангстерами из мафии».
Итак, с одной стороны, тайные акции, с другой – порождаемая ими бесконтрольность спецслужб. Есть ли какой-нибудь выход из создавшегося положения? Есть – подвести легитимную основу под деятельность разведывательных служб в национальном и международном масштабе. Ни одно уважающее себя государство, облеченное естественной ответственностью за свою безопасность, не откажется от разведывательной деятельности, и потому на смену лицемерию должна прийти узаконенная разведка с выполнением ею своих функциональных обязанностей в допустимо приемлемых для межгосударственных отношений рамках.
В 1981 году Рейганом было издано так называемое распоряжение по разведке относительно функций и обязанностей руководителей министерств и ведомств по оказанию помощи Центральному разведывательному управлению. По этому распоряжению главы всех министерств и ведомств должны в соответствии с законом и порядками, одобренными министром юстиции, обеспечивать директору ЦРУ доступ ко всей информации, необходимой для удовлетворения Соединенных Штатов в разведывательных сведениях, и надлежащим образом рассматривать обращения директора ЦРУ об оказании соответствующей поддержки деятельности разведывательных органов. По полученным нами в то время сведениям, далеко не все в вашингтонском руководстве поддерживали этот шаг своего президента.
Ничего подобного советским законодательством не предусматривалось. Не было даже практики запросов в министерства и ведомства о направлении в разведку информации, материалов, документов, справок по отдельным вопросам. Но поскольку нужда в таких материалах была, то нашей разведке волей-неволей приходилось вести настоящую разведывательную деятельность в своих же государственных и общественных организациях, что, разумеется, не укладывалось ни в какие правовые нормы. В этом отношении американская практика выгодно отличалась от советской. Кстати, наша разведка пыталась воспользоваться американским опытом, но это нам не удалось – мы не были поняты.
Центральное разведывательное управление и остальные разведки США вообще чувствовали себя куда вольготнее, в том числе и материально, чем разведки – внешнеполитическая и военная – Советского Союза. Так, советская разведка финансировалась в строго определенных центральными инстанциями рамках – ни больше ни меньше. По данным же, которыми располагала советская разведка, разведывательные органы США, включая Агентство национальной безопасности, весьма существенную часть своих средств получали из «черных» фондов, в частности за счет бюджета Пентагона. Причем эти расходы ни в каких официальных сметах не фигурируют, не говоря уже о расходах на тайные операции, полная стоимость которых никогда не была известна общественности и вряд ли когда-либо станет достоянием гласности.
Нет большего заблуждения, чем высказываемая иногда точка зрения, что разведка якобы вносит напряженность в межгосударственные отношения. Разведывательная деятельность действительно может быть причиной эпизодического осложнения в отношениях между теми или иными государствами. С этим согласиться можно. Однако практика показывает, что такие осложнения носят временный характер и существенным ущербом не оборачиваются.
Но вместе с тем именно разведка способна содействовать смягчению напряженности и укреплению доверия, снимая неоправданные подозрения и тем самым внося ясность в сложные ситуации.
Соединенные Штаты всегда выступали за большую «прозрачность» в военной области, добивались на переговорах по разоружению принятия самых строгих мер контроля, отмечая важность этого фактора для предотвращения обхода достигнутых договоренностей и поддержания тем самым стратегической стабильности. В век научно-технической революции для поддержания паритета особенно важно исключить возможность неожиданного появления в руках одной стороны принципиально новых видов оружия с невиданной до сих пор мощью. Но ведь разведка и здесь способна сыграть первостепенную роль.
Наличие разведок уже конституциировано практически во всех странах, где эти службы есть. Контакты между различными странами по линии разведок говорят о наступлении времени, когда их деятельность может быть узаконена межгосударственными соглашениями, что послужит важным шагом на пути к признанию разведслужб институтом международного права и несомненным фактором стабильности. Собственно говоря, речь идет о том, чтобы признать и узаконить давно уже существующую реальность, и не более того.
Под влиянием перемен в мире в последние годы стали устанавливаться контакты между руководителями спецслужб. Считаю подобную практику нормальным, полезным явлением. Контакты помогают лучше понимать друг друга, смягчать удары, предупреждать неприятные ситуации.
В ходе обмена мнениями по политическим проблемам раскрываются взгляды сторон, тут и совпадения, и совершенно различное видение событий, и несовместимость интересов. Последнее наиболее важно, в итоге оно определяет все остальное.
Естествен интерес к личностям. До прямого контакта думаешь о том, кто по ту сторону, только как о противнике, он ведь работает против тебя, твоя же задача – переиграть его в интересах своего государства. Степень его знаний о тебе, твоей организации, как правило, тайна, и потому неизвестно, кто перед тобой вдруг окажется.
Первый контакт официального представителя советской разведки с руководителем Центрального разведывательного управления США Гейтсом состоялся в декабре 1987 года в Вашингтоне во время посещения этой страны Горбачевым. Тогда я был в числе сопровождавших его лиц.
Неофициальная встреча с Гейтсом состоялась в одном небольшом ресторане с участием в общей сложности шести человек. Когда мы расселись, я в полушутливой форме заметил, что до сих пор мы работали друг против друга под столом, теперь же сидим за столом и ведем оживленную беседу.
О Гейтсе впечатление складывается не сразу. Раскрывается он со временем, часто отмалчивается, вопросы задает прицельные, жестами, обрывками фраз дает понять, что ему известно о собеседнике больше, чем последний думает.
На вопрос, что из спиртного подать к столу, я попросил виски. На это Гейтс заметил, что знает даже сорт виски, который предпочитает начальник советской разведки. Он действительно знал. Я заметил, что это не такая уж важная тайна, но, во всяком случае, он не мог узнать ее от тех из наших, кто перешел на службу к американцам, поскольку ни с кем из них я никогда не выпивал.
Участники встречи избегали разговоров по существенным вопросам, беседа велась вокруг познавательных, но близких нам тем, связанных с Советским Союзом и Соединенными Штатами.
Спустя пару лет, в 1990 году, Гейтс посетил Москву в качестве гостя американского посольства (Гейтс был директором ЦРУ в 1991–1993 годах). У нас состоялась встреча в гостевом доме Комитета госбезопасности в центре Москвы, в Колпачном переулке. Гейтс – специалист по Советскому Союзу, по истории нашего государства, увлекается периодом Ивана Грозного, Петра Первого, имеет научные труды.
Американский собеседник проявил, и это было заметно, повышенный интерес к национальному вопросу. Он прямо спросил, не хочу ли я узнать точку зрения ЦРУ на то, что будет с Советским Союзом в 2000 году – начале будущего века. Из его скупых слов можно было понять, что он сомневается, сохранится ли к тому времени СССР. Гейтс выразил намерение передать нам соответствующий аналитический прогноз, подготовленный в ЦРУ США.
Я, разумеется, сказал, что мы с признательностью восприняли бы передачу такого материала и сообщили бы свою точку зрения на него. Этот материал так и не был передан нам американской стороной, хотя в Вашингтоне мы находили возможность напомнить об этом Гейтсу.
Конечно, такому разговору с Гейтсом было придано большое значение, его серьезность и важность не вызывали сомнений в нашей службе. Думал я о трагическом прогнозе для Советского Союза и тогда, когда произошел его развал. Правда, Гейтс говорил о более позднем сроке: случившееся опередило развитие событий примерно на десять лет! Нашлись ловкие исполнители, которым оказалось по плечу приблизить трагедию, осуществить ее значительно раньше и масштабнее.
Гейтс – выразитель интересов тех, кому верно служил многие годы, он патриот Америки и воспитывался в годы господства холодной войны, когда Советский Союз считался врагом США номер один. Гейтс исходил из объективного несовпадения интересов США и СССР, не без основания усматривал в нашей стране главное препятствие на пути Америки по распространению и усилению влияния в мире. Он всегда нелояльно относился к Советскому государству, стоял на экстремистских позициях и впредь будет делать все для усугубления развала Союза и, можно с уверенностью предположить, дальнейшего ослабления и самой России.
По имеющимся данным, Гейтс настороженно относился к возможному тесному сближению СССР и Китая, усматривая в этом опасность для США.
Последнее характерно не только для Гейтса. Опасность развития советско-китайских отношений для Америки усматривали и предшественники Гейтса на посту директора ЦРУ. Тут следует исходить из реального представления в Вашингтоне о линии Москва – Пекин. Надо полагать, что в обозримом будущем в этом вопросе изменений в американской позиции не произойдет.
Встречался я и с бывшими директорами ЦРУ – Колби (возглавлял эту организацию в 1973–1976 годах) и Тернером (1977–1981) – во время их приезда в Москву в 1990–1991 годах как частных лиц. И при одном и при другом американская разведка добилась существенных успехов в приобретении агентуры из числа советских граждан, в том числе среди сотрудников наших внешнеполитической и военной разведок. Оба усматривали в Советском Союзе главного противника США, вели огромную работу по бывшим социалистическим странам и в государствах третьего мира. Таким образом, в принципиальном плане различий между всеми тремя названными директорами ЦРУ нет.
Посещение Тернером и Колби Советского Союза было вызвано их желанием лично увидеть главного противника по разведывательной работе и посмотреть, что же с ним происходит. Они проявили неподдельный интерес к идущим у нас процессам, не скрывали своего удивления и непонимания. В центре их внимания опять-таки был национальный вопрос, отношения между республиками. Тернер в то время писал книгу о своей работе в разведке и попросил меня написать короткий комментарий, если мне память не изменяет, ко второму изданию книги, что я и сделал, и он был помещен в книге.
Тернер и Колби положительно отзывались о нашей стране, ее культурной жизни, в частности о театрах. Москва и Ленинград произвели на них впечатление оживленных, красивых, полных содержательной жизни городов. По-моему, они на это не рассчитывали. Примечательна в этом отношении фраза, брошенная Колби в беседе со мной: «А вы знаете, социализм не так уж плох!»
Думаю, что мои встречи с Гейтсом, Тернером, Колби, контакты КГБ с представителями американских спецслужб на разных уровнях положили для КГБ начало более широких связей по этой линии не только с американцами, но и с представителями других стран.
Надо признать, что к назначению на должность руководителей ЦРУ, ФБР и других спецслужб в Вашингтоне неизменно подходили весьма основательно как в периоды республиканского, так и демократического правления. С точки зрения национально-политических интересов страны, определяемых существующим режимом, в этом вопросе никаких зигзагов не было. Это в последние месяцы существования Советского Союза, а затем в России, как и в других странах – членах СНГ, в смутные 90-е годы на руководящие посты в органах госбезопасности назначались приверженцы откровенно противоположных социально-политических взглядов, причем с нулевой профессиональной компетентностью в этой области. Именно такие люди сначала парализовывали, разрушали деятельность вверенных им спецслужб, а затем направляли их усилия на подрыв устоев «тоталитарного» государства, а фактически на разрушение государства как такового. Ничего подобного в Соединенных Штатах никогда не наблюдалось.
Из директоров ЦРУ – профессионалов стоит выделить Уильяма Кейси. Рейган хотел видеть ЦРУ более мощной организацией (или ему внушили, что она должна быть таковой). В подборе руководителя для реализации этой задачи он не ошибся. Кейси обладал острым умом, решительностью и вместе с тем необходимой гибкостью. Он был способен серьезно анализировать факты, события, что усиливало его цепкость прагматика.
Его прагматизм не был сиюминутным – он не уходил от решения долгосрочных вопросов, что находило проявление в укреплении как ЦРУ в целом, так и отдельных направлений его деятельности. Правда, натура ирландца давала о себе знать, в частности, в импульсивности работы американской разведки. Так, несмотря на начавшиеся в 1980-е годы провалы своей агентуры в Советском Союзе, ЦРУ продолжало упорно поддерживать активность своей агентурной сети, чем советские спецслужбы эффективно пользовались. Как-то в американской печати про Кейси сказали, что он не может сколько-нибудь продолжительное время держать себя в руках. По-моему, подмечено точно.
В целом же для Советского Союза Кейси был неудобным руководителем ЦРУ. Бюджет этой организации при нем стремительно увеличивался: по некоторым данным, до 20 % в год. Число сотрудников возросло с 14–15 до 18 тысяч человек.
Именно при Рейгане и Кейси получили развитие силы специального назначения. По официальным данным, расходы на них возросли с 441 млн долларов в 1982 году до 1,2 млрд долларов в 1986 году, а численность увеличилась с 11 до 15 тысяч человек.
В Москве обратили внимание на то, что в 1986 году конгресс США узаконил проведение так называемых тайных операций и даже определил их классификацию. К крупным он отнес те операции, для которых требовались затраты от 5 до 7 млн долларов и которые были нацелены на свержение иностранных правительств. Как видите, определяющим являлись деньги, а возможные жертвы, материальный ущерб и другие негативные последствия остались за рамками, как бы не принимались в расчет.
Любопытным образом в этот период складывались отношения между Капитолийским холмом и разведывательным сообществом США. По оценке советской разведки, они носили напряженный характер, и ЦРУ, несмотря на браваду, все-таки побаивалось конгресса. Надо признать, что законодательная власть в США влиятельна, сильна и достаточно правомочна для принятия основополагающих решений, в том числе и по судьбе действующего президента. (В этом отношении полная противоположность ситуации в России.) Разногласия были отрегулированы в пользу… обеих сторон. Кейси не допустил чрезмерного контроля за ЦРУ со стороны конгресса, прежде всего за оперативной деятельностью. В свою очередь конгресс не лишился права контролировать строго определенные направления деятельности ЦРУ специально выделенными для этих целей конгрессменами и при их полной ответственности за сохранность секретов.
Когда в 1991 году, еще в бытность Комитета госбезопасности СССР, в Верховном Совете рассматривался проект закона о советских органах госбезопасности, то американский опыт о соотношении законодательной власти и КГБ был учтен. Однако принятый у нас закон был куда более «демократичным», более толерантным, чем американская система безопасности, – достоинство, честь, интересы, права человека надежно защищались государством и любая тайная операция по американскому образцу исключалась. Даже проверка на детекторе лжи считалась нарушением прав человека, и если кто-либо подвергался этой процедуре, то лишь с согласия испытуемого и скорее в научно-экспериментальном плане, ни к чему и никого не обязывающем.
Но вернемся к Кейси. Он все-таки скорее выполнял роль исполнителя, чем творца политики и инициатора разработки глобальных решений, основополагающих инициатив Вашингтона в международных делах. В частных беседах сотрудники ЦРУ воздавали должное Кейси в «наведении порядка» в этой организации, в повышении ее престижа, чему способствовали его жизненная школа и опыт как ветерана – разведчика времен Второй мировой войны.
Любое государство должно иметь гарантии от неприятных неожиданностей, чувствовать себя уверенным. Без усилий разведок это недостижимо. Другое дело – правила игры, обусловленность: какие методы и приемы в работе допустимы, а за какие рамки переходить нельзя. По этим вопросам возможны и целесообразны переговоры, соглашения, договоренности – пусть даже только джентльменские, лишь бы они соблюдались.
Разведка – сложный организм, который живет, действует и развивается в зависимости от конкретных исторических условий, во многом определяемых той внешней и внутренней политикой, которую проводит данное государство. Есть у нее, правда, задачи, которые остаются неизменными на протяжении веков.
Главная из них состоит в том, что любая разведслужба – это глаза и уши государства. Жизненно важная информация, как правило, либо поступает к руководству страны по каналам разведки, либо перепроверяется с использованием ее возможностей.
Хотя чисто разведывательные сведения, добытые агентурным путем или с помощью технических средств, составляют далеко не весь объем в общем информационном потоке, включающем сведения из открытых или дипломатических источников, тем не менее именно на их основе принимается значительная часть принципиальных решений на политическом уровне.
Все возрастающее значение в последнее время приобретает информационно-аналитическая деятельность спецслужб. Это и понятно, ведь только в их руках может концентрироваться информация из всех источников – как собственных, так и иных, в то время как другие ведомства имеют ограниченный доступ к разведданным, не могут оценить ни степень их достоверности, ни возможность их использования в безопасном для агентуры плане.
Наконец, именно разведслужбы обладают наиболее обширным арсеналом приемов и средств для получения нужных сведений, в первую очередь тех, которые хранятся за семью печатями и составляют государственную тайну.
С развитием международных связей возрастает потребность в защите интересов государства и обеспечении безопасности его граждан за рубежом. И здесь у разведки и ее подразделения – внешней контрразведки особые задачи и возможности. По сути дела, именно она осуществляет основную работу в этом направлении.
На резидентурах и наших представителях за рубежом лежит вся ответственность по охране зданий и персонала дипломатических представительств, обеспечению безопасности шифросвязи и выполнению многих других связанных с этим задач.
К числу задач разведки относилась передача денежных средств зарубежным компартиям. Возможно, это и не дело разведки, однако других надежных и безопасных путей для этого у нашего государства тогда попросту не было. Не говоря уже о том, что тогда было другое время, существовали иные порядки, другая соподчиненность партийных и государственных органов.
Промышленный шпионаж – довольно развитое явление в странах Запада. Были вынуждены заниматься подобными делами и мы, только в гораздо более сложных условиях. От нас свои секреты оберегали не только конкретные фирмы, на их стороне стояло еще и государство, да плюс к тому международные механизмы, такие как КОКОМ. Как минимум тройной кордон! Но и в этих условиях удавалось достичь ценных результатов, речь о которых пойдет чуть ниже.
И до меня, и при мне в разведке шли острые дискуссии о дальнейших путях развития службы, формирования оптимальных направлений оперативной деятельности. Только внешне казалось, что в Первом главном управлении все решается и делается по накатанному пути, без каких-либо дискуссий и споров. В действительности острые и горячие обсуждения проходили на всех уровнях, по служебной, партийной линиям, на производственных совещаниях и научно-теоретических конференциях.
Неизменно возникал вопрос: что является главным, основополагающим в решении оперативных задач? Такой вопрос обсуждался не только у нас, в советской разведке. Споры по нему шли, и довольно открыто, в ЦРУ США, а также в спецслужбах Франции, Англии, ФРГ и других стран.
Под воздействием достижений научно-технической революции, появившихся благодаря этому дополнительных возможностей стала распространяться точка зрения, согласно которой в век столь важных открытий в науке и технике агентурная работа в разведке закономерно должна отойти на второй план. Не обошлось здесь и без активных мероприятий со стороны некоторых западных спецслужб. До нас регулярно доводилась целенаправленная информация о том, что ЦРУ постепенно отказывается от приоритета агентурной работы и делает главную ставку в добыче информации на технические средства, на использование открытых сведений.
Кстати, то же самое происходит и сегодня, что видно из официальных заявлений представителей иностранных спецслужб, аналитических исследований, публикаций в печати. Расчет ясен: дать пищу тем, кто настойчиво старается любым путем ослабить деятельность наших органов госбезопасности и их неотъемлемой части – разведки, если не лишив, то, по крайней мере, принизив значение ее важнейшего оперативного средства – агентуры.
Глубокий и всесторонний анализ этой проблемы, а также опыт работы спецслужб различных стран говорят о том, что агентура была и на обозримое будущее останется основным звеном оперативной деятельности. Именно агентурным путем спецслужбы добывают наиболее ценную информацию. К агентурному проникновению другой стороны следует относиться как к неизменному и вполне закономерному явлению. Вопрос в том, кто наберет здесь, образно выражаясь, больше очков.
В то время как шли дискуссии о значении и роли агентурной работы, решали, сокращать ее удельный вес или нет, и ЦРУ и КГБ темпов оперативной деятельности по приобретению агентурных позиций не снижали. Этого не позволяла делать сама жизнь. Более того, именно в 60—80-х годах, когда особенно активно муссировались слухи о предстоящем уменьшении значения агентурной работы, ЦРУ и некоторые другие западные спецслужбы добились особенно серьезных успехов в приобретении агентуры в Советском Союзе и бывших социалистических странах.
ЦРУ, например, удалось внедриться в ряд советских учреждений, научно-производственных объединений и получить доступ к важнейшим государственным секретам. По подсчетам экспертов, ущерб, который понес Советский Союз в результате агентурной деятельности западных спецслужб, исчислялся многими миллиардами тех полнокровных рублей, особенно в отраслях оборонной промышленности и науки.
Еще об одном аспекте, связанном с деятельностью разведывательных органов США, и прежде всего ЦРУ. Во всем мире главным объектом критических нападок, виновником чуть ли не всех бед считается ЦРУ. Такое же мнение бытовало и в Советском Союзе. Именно оно «разрабатывает», «инициирует», «реализует» все зловещие планы против человечества. А ведь это далеко не так! Конечно, роль и значение ЦРУ нельзя недооценивать, однако при всем при том эта организация является всего лишь исполнителем воли и решений вашингтонской администрации, президента, конгресса. Не больше и не меньше! Забвение этой истины приводит к тому, что благодаря такому преувеличенному подходу к месту ЦРУ в системе американской государственности за бортом заслуженной критики остается политический Вашингтон, его правящая верхушка.
Поясню эту точку зрения на следующем примере.
С каждым годом горбачевской перестройки мощь Советского Союза, его позиции на международной арене таяли. Мы получали достоверную информацию о том, что ЦРУ верно улавливало эту тенденцию и пришло к выводу, что Москва стала не так уж грозна, как прежде, и американская политика по отношению к ней может быть смягчена. Но это не устраивало кое-кого в Вашингтоне. И вот в марте 1990 года разногласия по этому вопросу вылились на страницы американской печати. Газета «Нью-Йорк таймс» поведала читателям, что между директором ЦРУ и министром обороны США существуют разногласия по вопросу о том, будет ли Советский Союз и впредь представлять серьезную военную угрозу для Америки и Запада. Эта полемика, отмечала газета, скрываемая администрацией от общественности, возникла после слов директора ЦРУ Уильяма Уэбстера о том, что эксперты разведки считают маловероятным, чтобы Советы представляли серьезную угрозу с точки зрения обычных вооружений в обозримом будущем, даже если на смену Горбачеву придут сторонники жесткого курса.
Эта оценка Уэбстера вызвала резко критическую реакцию министра обороны Чейни, заявившего, что высказывания директора ЦРУ не содействуют его усилиям с целью добиться одобрения предложений администрации Буша по увеличению расходов на оборону.
В итоге упомянутую опенку ЦРУ просто замолчали, а Пентагон получил просимые им ассигнования на военные цели.
ЦРУ в целом верно оценивало ход и результаты перестройки в СССР. Так, к лету 1991 года ЦРУ и РУМО США представили президенту доклад о состоянии советской экономики. В докладе, в частности, отмечалось, что «через шесть лет после того, как президент СССР Михаил Горбачев начал проводить политику реформ, получившую известность под названием перестройки, советская экономика оказалась в кризисе. Выпуск продукции сокращается со все возрастающей скоростью, инфляция грозит выйти из-под контроля, межрегиональные торговые связи разорваны, а центр и республики оказались втянутыми в ожесточенную политическую борьбу относительно будущего всего многонационального государства».
В то время как ЦРУ объективно подмечало провальное положение в Советском Союзе из-за горбачевской перестройки, Буш и другие высокопоставленные американские деятели не уставали расточать похвалы своему «другу Майклу», восторгаясь его «новым мышлением», приверженностью «общечеловеческим ценностям», подталкивая этого, мягко выражаясь, недалекого человека к дальнейшему разрушению Советского государства.
Вовсе не хочу придать хотя бы некоторой части деятельности ЦРУ прогрессивный характер. Речь идет об организации, призванной и имеющей возможность объективно отображать действительность. Другое дело, как она поступала на самом деле. Ясно одно: и администрация, и ЦРУ работали в одном ключе, дополняли друг друга, во всяком случае, американская разведка выступала в роли исполнительницы воли и политического курса вашингтонской олигархии. Вся их практическая деятельность была тесно переплетена.
В 1988 году специальный помощник президента США и директор разведывательной программы Совета национальной безопасности Кеннет де Граффенрейд заметил, что «конец 80-х – 90-е годы, вероятно, будут характеризоваться беспрецедентной вовлеченностью президента в решение проблем разведывательно-политического характера во всех аспектах».
Так оно и происходило.
Выявление и пресечение деятельности иностранной агентуры всегда требовало исключительно сложной, кропотливой и, как правило, весьма длительной работы. Отправной точкой подчас служил какой-то отдельный признак утечки информации или же просто предчувствие, возникающее при скрупулезном анализе огромного потока информации. Для того чтобы добраться до истины, нужно было осторожно, чтобы не порвать тонкую нить, размотать весь клубок до конца. Почувствуй противная сторона, что мы напали на след, и дело можно считать проигранным – агент ляжет на дно, и добраться до него будет уже гораздо труднее.
