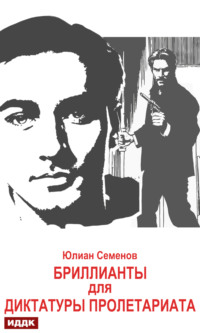Czytaj książkę: «Исаев-Штирлиц. Книга 1. Бриллианты для диктатуры пролетариата», strona 4
– Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю – вы его продадите за двадцать тысяч.
– Ох, какой хитрый и умный, косподин Форонцоф, – посмеялся Саакс, доставая деньги, – и такой рискофанный. Разве можно оставлять в заклат любовь?
– А вот это уже не ваше дело, милейший, – ответил Воронцов с мертвой кривой улыбочкой.
– До сфиданья. И не сердитесь, я шучу. Кстати, к фам зфонила женщина, которая обычно зфонит поздно фечером.
– Что она просила передать?
– Она просила сказать, что состояние фашего друга ухудшилось.
– Резко ухудшилось?
– Та, та, ферно, она сказала – «резко ухудшилось». Она просила фас зайти к нему секодня фечером.
– Мне придется еще раз позвонить, – сказал Воронцов и, не дожидаясь обстоятельно-медлительного разрешения Саакса, вызвал номер и по-немецки, чуть изменив голос, сказал: – Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи.
– Да, господин, я оставлю записку нашей гостье.
– Не надо. Вы передайте ей на словах.
– Хорошо, господин, я передам на словах.
– Прости, я задержался, – сказал Воронцов, поднявшись к себе, – почему ты не пил без меня, Леня?
– Один не могу.
– Значит, гарантирован от алкоголизма.
– Это верно.
– Тут вокруг тебя уже начался ажиотаж: заворочалась пресса, поэты.
– Пронюхали? Откуда бы?
– Щелкоперы – труд у них такой, да и ты – не иголка в стоге сена. Голоден?
– Видимо – да, только я голода не ощущаю: сыт воздухом свободы – прости за сентиментальность.
– Воздух воздухом, а в топку подбрасывать надо всюду – и где террор, и где парламент. Смена белья есть? Не вшив?
– Я прошел санпропускник, а смены белья нет. Куда-нибудь двинем?
– Сорочки посвежей нет? А галстука?
– Ничего, из Москвы приехал – не из Вашингтона.
– Если бы ты приехал из Вашингтона – сошло бы, а поелику из Москвы прибыл – швейцар не пустит в кабак.
– Кого?
– Нас. Вернее, тебя, я при галстуке.
– То есть как это прогонит? Что он – член Совдепа?
– Совсем даже нет, – ответил Воронцов, доставая из чемодана, спрятанного под кроватью, туго накрахмаленную сорочку, – он очень Совдепы не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои парии и патриции, рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное, особое самоунижение. Он клиента ненавидит – тяжело ненавидит, а весь в улыбке, почтении, нежности, дозированном панибратстве. Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас – до переворота. А по счету платить им некому, так они жеребцам глаза… Штопором…
Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо.
– Здешняя индустрия лакейского унижения поразительна, – продолжал Воронцов. – Она предполагает восемь часов рабства и шестнадцать часов тайной, могущественной свободы. Лакеи скоро начнут создавать свои клубы – поверь. Ну, с богом. Давай на дорожку еще по одной… Галстук не в тон, но, прости, у меня только два.
– Неужели ты ничего не взял с собой из дома, Виктор?
– Бриллиантов взял тысяч на сто…
– Сильно пил?
– Я, Леня, помогал. Сначала Антону Иванычу Деникину, потом поехал в Омск – адмиралу передал все… Помнишь корнета Ратомского? Умер с голода в Шанхае, а была вакансия – лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови: гонора в нем было преизбыточно… Я ведь, лакействуя, накопил в клубе денег на дорогу в Европу… Ваш сия, прашу…
– За тебя, Виктор, – поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. – За твое сердце и за мужество твое.
– Полно, Леня… Полно… Это все полезно – что было. За одного битого двух небитых дают.
Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки – поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров наконец спросил:
– Неужели никто из наших не мог тебе помочь?
Воронцов ничего не ответил, только усмехнулся.
– Дорогу, Леня, запоминай, – сказал он наконец, – тебе одному придется возвращаться, у меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь.
– Я помешаю тебе?
– Нет, я к себе никого не вожу…
– Совестишься конуры?
– Господи, что ты… Я не из купцов все-таки… Нет, тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди, – так же дома страшно? Как в восемнадцатом?
– По мне – стало еще хуже. Мужик доведен до полного измождения разверсткой. Что им наша деревня… Ты им подай городской пролетариат… Вот они и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтоб заводы строить – по ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества…
4
Ревель. Роману.
Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника, подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт.
Бокий
Расстановка сил
1
Глава эстонского государства Пятс быстро пошел навстречу Литвинову по толстому ковру, который скрадывал звук шагов.
Поначалу ковра не было, и идти навстречу послу приходилось через громадный зал, а паркет здесь был выложен какой-то особый, невозможно гулкий, и президент смущался того солдатского грохота, который шлепал гулким эхом по углам зала, даже когда он старался мягко ступать на носки.
– Здравствуйте, господин президент…
– Здравствуйте, простите, что я задержал вас…
Пятс выждал паузу, думая, что Литвинов ответит нечто обязательное в таком случае, вроде «я понимаю вашу занятость», но посол ничего не ответил, пауза затягивалась, и президент, протянув левую руку, указал на два кресла возле камина:
– Прошу вас.
– Благодарю.
Литвинов набычил голову – она сейчас показалась президенту громадной, больше туловища посла, – чуть подался вперед и заговорил:
– Несмотря на наши неоднократные просьбы, полиция Эстонии не предприняла никаких шагов против тех бандитских групп, которые, базируясь в Ревеле, совершают нападения на города и населенные пункты, расположенные в РСФСР, и занимаются там грабежами, убийствами и насилиями.
– Пожалуйста, факты, господин посол. Бездоказательность в таком вопросе может быть трактована лишь как попытка вмешиваться в наши внутренние дела.
– Я думаю, если мы станем приводить факты, то картина получится обратная. Не мы вмешиваемся, а в наши внутренние дела вмешиваются: с территории Эстонии в Россию перебрасываются бандгруппы; здесь они находят покровительство.
– Я вынужден повторить: базой для обсуждения этого вопроса могут быть лишь строго документированные факты.
Литвинов достал из кармана пиджака несколько листочков бумаги. Он доставал их медленно, неуклюже, и делал он это продуманно и весело: президент никак не думал, что посол привезет официальный документ в кармане, а не в папке. Посол позволял себе шутить – иногда рискованно, но всегда точно и беспроигрышно.
Раньше – и в ссылке, и в эмиграции – у Литвинова было отстраненное представление о дипломатии. Это представление невозможно изменить до тех пор, пока человек сам не станет дипломатом. Только тогда он поймет, что дипломатия есть одна из форм международной торговли, а та в свою очередь похожа на обычную торговлю, а в моменты наибольшей опасности для мира напоминает торговлю базарную, где побеждает самый спокойный, сильный и обязательно честный: плохим товаром морду извозят и опозорят надолго вперед – не поднимешься…
Литвинов многому научился у Чичерина, Красина и Воровского.
Манера этих людей была великолепная: чуть суховата, без всяких эмоций – карты на стол, дело есть дело. Никакой суетливости и высокое чувство самоуважения: представлять следует не какую-нибудь державу, а первую в мире – социалистическую.
Литвинов как-то сказал замнаркома Карахану:
– Я убежден, что мы рано или поздно придем к решению важнейшей проблемы – мы еще к ней не подошли, и как к ней подойти – вопрос вопросов, тут можно таких дров наломать – я имею в виду проблему вытравления из сознания российской интеллигенции чувства собственной второсортности.
– То есть? – не понял Карахан. – Это отдает великодержавным шовинизмом.
– Отнюдь нет, – возразил Литвинов, – это если уж и отдает – то национальной гордостью великороссов. Я обожаю Байрона, но ведь Россия дала миру Пушкина! Мопассан? Великолепно, но у нас Чехов! Флобер, Золя, Диккенс? Верно, без них нет мира. А без Толстого, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Лермонтова? Верди?! А Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский? Как без них жить?
– Вы заметили, – усмехнулся Карахан, – наша революция пробудила и во мне, армянине, и в вас, иудее, высокое чувство социалистического великороссийского патриотизма?
– Заметил, – согласился Литвинов, – а потому во время переговоров ноги на стол, естественно, класть не следует, но надо всегда помнить, что мы живем под шатром великой российской культуры, мощнее которой, пожалуй, нет в мире… А то мы шведу какому-нибудь или голландцу ручку трясем и улыбку строим лишь потому, что он и у себя дома – иностранец.
…Достав из кармана листочки бумаги, Литвинов расправил их на коленях и начал неторопливо читать.
– «Пятого, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и двадцать третьего февраля 1921 года совершено двенадцать попыток нарушения госграницы, причем во время перестрелки, состоявшейся двадцать третьего февраля, ранено два советских пограничника и один эстонский. Во время перестрелки второго марта был убит русский белоофицер штабс-капитан Петр Васильевич фон Бромберг. При убитом была обнаружена крупная сумма денег и пачка поддельных советских документов. В Ревеле фон Бромберг проживал вместе с лидером белых монархистских бандгрупп графом Воронцовым. О том, где проживают и где встречаются представители эмигрантских бандгрупп, посольство РСФСР уведомило соответствующие органы Эстонии еще четырнадцатого февраля сего года…»
Литвинов продолжал читать свой документ, опровергнуть который не мог никто, а президент, слушая его, горестно и тяжело думал: «Наша вина заключается лишь в том, что мы – маленькая страна. Как же трагична роль малых стран в этом большом мире. Кого винить в том, что мы поселены богом на этой каменистой, прекрасной, неплодородной, но такой дорогой нам земле?»
Когда Литвинов закончил чтение документа, президент закурил и минуту сидел недвижно, смежив веки…
– Я дам указание разобраться во всем этом.
– Министр иностранных дел давал три указания, однако бандиты продолжают спокойно жить в Ревеле и встречаться, и мы знаем, где они встречаются и о чем они, встречаясь, говорят.
– Мы живем по иным законам. Полиции нужны неопровержимые улики… Иначе мы не сможем предпринять против русской эмиграции те шаги, которые вы подразумеваете…
– Правительство уполномочило меня довести до вашего сведения, что оно не намерено более терпеть подобного рода вылазки, проводимые с территории государства, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения.
– Но вы, надеюсь, понимаете те трудности, которые стоят перед нами? Вы, лично вы, живущий здесь…
– Я не научился отделять мое мнение от мнения моего правительства, господин президент.
– Что же нам – ЧК вводить, чтобы изолировать русскую эмиграцию?!
– Я не уполномочен давать вам советы. Это можно расценить как вмешательство в ваши внутренние дела. Но я хотел бы, чтобы те уважаемые господа, которым вы поручите это дело, с должным вниманием отнеслись к тому, что – я повторяю – правительство РСФСР не намерено далее терпеть подобного рода акты со стороны русских бандгрупп при попустительстве эстонских властей…
– Я понимаю эти ваши слова.
– Это не мои слова, господин президент, – жестко поправил его Литвинов.
– Ваше правительство угрожает нам интервенцией?
– Мы никому не угрожаем. Убивают наших пограничников, попирают наши границы, в местной прессе подвергают беспрецедентным нападкам мою страну и ее лидеров – конец всякому терпению чреват действием!
– Но я же не могу издать приказ об аресте всех этих русских, господин посол! Войдите в мое положение! Меня не поймет мой народ!
– А мое правительство не поймет мой народ, если и дальше будут продолжаться подобные эксцессы на границе.
– Я не могу не отметить, господин посол, что ваша позиция неразумно жестока.
– Вы говорите о жестокости моего правительства? Того, которое дало вам свободу и независимость? Того, которое выступило против колониализма царя? Того, которое гарантирует вам свободу и безопасность от немецкого вторжения? Свободой, которая не завоевана, но получена из других рук, надо уметь уважительно и целенаправленно пользоваться, господин президент.
– Вы имеете в виду географическую, вынужденную целенаправленность? – горько улыбнулся президент.
– Географическая, этническая и историческая целенаправленность никогда не бывала вынужденной; она всегда была разумной в этом мире, четко разграничившем самого себя, – ответил Литвинов и вручил Пятсу ноту НКИД.
«До нашего сведения дошло, что противники Российского Советского правительства, не отступающие в своей борьбе против него перед самыми гнусными провокационными приемами и преступлениями, подготовляют в Латвии покушения на членов латвийского правительства, на иностранных представителей и на членов иностранных миссий. Одновременно с покушениями предполагается выпустить подложные прокламации от имени Коммунистической партии с заявлением о том, что эти покушения служат ответом на репрессии против коммунистов. В связи с этим предполагается также начать кампанию в печати, обвиняя Российское Советское правительство в том, что оно якобы является инициатором этих покушений. Таким путем имеется в виду создать подходящую атмосферу для агрессивных действий со стороны иностранных держав против Советской России. Подобные же методы будут, вероятно, применены и в других государствах… Из числа русских эмигрантов непосредственными участниками этих планов являются монархические круги. В связи с этими известиями российским полномочным представителям в Латвии и других соседних государствах поручено предупредить их правительства об этих преступных планах».
…После ухода Литвинова глава государства попросил секретаря срочно вызвать для беседы британского посла.
2
Всякая закономерность случайна в такой же мере, как любой случай закономерен. Сцепленность заинтересованностей держав, концернов, партий, будучи рассмотрена на расстоянии, явит собой картину логически безупречную и четкую. Однако если персонифицировать историю, то обнаружатся такие подспудные обстоятельства, которые, казалось бы, противны здравому смыслу. На первый план в этом случае могут выйти личные симпатии и антипатии, возрастные явления; те или иные повороты истории будут определены не столько ходом объективного развития общества, сколько разностью темпераментов противостоящих друг другу лидеров; пустая мелочь может оказаться решающим фактором – даже насморк, когда человек испытывает раздражение оттого, что льет из носу и платок мокрый, да и сморкаться беспрерывно в присутствии контрагентов – особо если речь идет о межгосударственных переговорах – не с руки, а еще, упаси бог, кто посмеется – ущемленность и зажатость в лидере куда подчас опаснее той доктрины, которую он проводит в жизнь, как бы на первый взгляд эта доктрина ни была жестка и бескомпромиссна…
…Жена шофера британского посла, маленькая, все еще хорошенькая, но уже начавшая увядать, устроила сцену ревности мужу своему Курту, который с громадным трудом получил место в посольстве и теперь всячески пытался зарекомендовать себя старательным и преданным работником. Беспочвенная ревность, крики жены, заинтересованность соседей по дому – все это вывело Курта из себя: он больше всего боялся, что о его домашних скандалах узнают в посольстве.
– Я же во имя семьи работаю день и ночь, – закричал он, – я хочу, чтобы и ты и мальчики были всем обеспечены! Мне с тобой некогда поспать – не то чтобы с другой! Устаю я, понимаешь?! Устаю!
– Ты не смеешь меня попрекать! – отвечала ему жена. – Я не попрекаю тебя тем, что стираю твое белье и готовлю обед!
Словом, когда Курт вез жену посла от антиквара, у которого был куплен уникальный сервиз семнадцатого века, из переулка выскочила повозка, и Курт – обычно хладнокровный и расчетливый – сейчас, будучи взбудоражен домашней сценой, резко взял на тормоза, сверток с сервизом упал, и три чашки разбились. Супруга посла, естественно, ограничилась сдержанным замечанием – нельзя ронять достоинство перед шофером, но с мужем она вела себя совершенно иначе – если ломать себя даже с близкими, то как тогда жить?
– Вы могли бы выписать шофера из Лондона, – говорила она нервно, – эти животные не в состоянии управлять автомобилем, им надо ездить на коровах!
– Вы же знаете, дорогая, – ответил посол, – что смета, отпущенная министерством, до крайности ужата – мой дворецкий тоже эстонец, а я очень хотел бы видеть на его месте нашего ливерпульского Говарда…
– Вы можете нанять британского шофера и платить ему из наших личных денег…
– Но тогда, дорогая, вы не сможете покупать саксонские сервизы и ежегодно ездить в Канны.
– Это не по-джентльменски, дорогой, упрекать меня поездками в Канны…
– Вы путаете, дорогая, понятие упрека с констатацией факта.
– То, что вы сейчас сказали, безнравственно и свидетельствует о вашем дурном воспитании… Я не смею упрекать – ваши ирландские предки больше интересовались своей ячменной водкой, чем вашим будущим…
К президенту посол прибыл – как его и просили – незамедлительно, не успев успокоиться, внутренне продолжая вести язвительный диалог с женой, которая оказалась столь холодной и жестокой, что посмела упрекнуть его ирландским происхождением.
Президент проинформировал посла Его Величества о беседе с русским и спросил:
– Можем ли мы рассчитывать на быстрый и эффективный демарш со стороны Лондона?
– Я не могу ответить вам, господин президент, не запросив об этом правительство Его Величества.
– Меня в данном случае интересует ваша точка зрения.
– Но и в Лондоне я живу не на Даунинг-стрит, – ответил посол и сразу же понял, что говорит он с президентом – пусть даже здешним, зависящим от Лондона и Парижа больше, чем от волеизъявления своих соплеменников, – совсем не так, как следовало бы, и он понял, что говорит так из-за обиды на жену, и это ущемило его еще больше, ибо он понял, что страдает изъяном, недопустимым для дипломата, – эмоциональностью, – и поэтому, стараясь как-то сгладить свою непростительную резкость, сказал: – Я немедленно отправлю телеграмму в Лондон со своими рекомендациями.
Глава государства не мог, естественно, знать о том неприятном объяснении, которое только что было дома у посла Его Величества. Но он знал о том, что в Лондон прибыло несколько русских высокопоставленных большевистских чиновников, которые ведут беседы с представителями серьезных деловых кругов Великобритании. И президент предположил, что в Лондоне намечается определенный поворот в сторону смягчения отношений с красными. Поэтому, простившись с послом, он пригласил к себе министра внутренних дел Карла Эйнбунда и предложил ему сегодня же арестовать нескольких русских эмигрантов: эта акция давала возможность – хотя бы на ближайшее время – отводить все возможные нападки Наркоминдела, ссылаясь на то, что группа эмигрантов арестована и ведется следствие, о результатах которого будут проинформированы все заинтересованные стороны. Президенту очень понравилось – «все заинтересованные стороны». Это многозначительно, но дает повод к двоетолкованию, а в политике есть только один выигрыш: когда тот или иной абзац, порой слово, дают возможность разных толкований, ибо всякие толкования предполагают беседу за столом, а не перестрелку в окопах.
Опасность дерзких шуток
– Господин Никандров, позвольте поблагодарить вас за интересный, трагичный реферат о положении у нас на родине, – сказал Евгений Андреевич Красницкий, давнишний друг Воронцова по армии, – желаю вам поскорее включиться в наше общее дело, мы от души вас приветствуем.
Вместе с ним пришли еще три человека – те были молчуны; они лишь пили вместе со всеми, когда Воронцов или Красницкий предлагали тост. Ян Растенбург привел двух молодых ребят: один аккуратен, гладок, сливочен – переводчик и поэт Иван Хэйнасмаа, а второй, нечесаный, Хьюри Лыпсе – популярный поэт и актер. Поначалу поэты помалкивали, яростно налегали на водку и бутербродики, посматривали в зал – видимо, ждали прихода Юрла, чтобы начать свою партию уже в присутствии газетчика.
В баре было дымно, шумно, весело. Люди собирались здесь разноплеменные, странные: и моряки, и спекулянты, и богема, а порой близкие к правительственным и дипломатическим кругам субъекты, понять которых почти невозможно: то ли он завтра сядет командовать департаментом, то ли за ним и здесь ходят тайные агенты полиции, подбирая в досье последние крупицы доказательств, чтобы наутро, негромко постучав в дверь, увезти в тюрьму, а там – на острова или еще куда подальше.
Воронцов смотрел на Никандрова влюбленно. Он преклонялся перед его чуть холодноватым, аналитическим талантом, да и потом, с этим человеком были связаны самые дорогие ему воспоминания: и охота, и споры за вечерним чаем в Сосновке о судьбах мира, об истории России, и бега – словом, все то, что нынче ушло, по всему, безвозвратно.
Никандров, чувствовавший себя поначалу скованно – сказались годы революции, самоконтроль, страх, что донесет кто-нибудь из соседей, услыхав неосторожно сорвавшиеся с языка слова, – теперь разошелся и даже вел себя несколько развязно: сидел, бросив ногу на ногу, чересчур небрежно и сыпал остротами, подчас чрезмерно грубоватыми. Воронцов понимал его; он считал, что это у Никандрова вызвано внутренним раскрепощением, которое чаще всего бесконтрольно.
Юрла пришел не один: с ним был секретарь редакции «Постимеес» Лахме с беспутно-красивой, видимо уже чуточку пьяной, актрисой варьете «Виллы Монрепо» Лидой Боссэ. Была она популярна в Ревеле: голос у нее был хрипловатый, низкий, и песни она пела какие-то странные – некая занятная смесь французских с цыганскими; поначалу смешно и непривычно, а после мороз дерет по коже. Про нее говорили, что она берет громадные деньги за ночь с капитанов или стариков-промышленников; это давало ей возможность быть независимой и не принадлежать какому-то одному покровителю.
Увидав Лиду, Никандров подобрался, лицо его сделалось еще более выразительным, резче обозначились скорбные морщины вокруг рта. Лида села близко к нему; пахнуло горьковатыми духами, и стало ему тревожно и счастливо – давно так не было.
Волосатый, нечесаный Хьюри Лыпсе, переждав, пока все, обменявшись рукопожатиями и шумными приветствиями, выпьют, спросил:
– Господин Никандров, в чем вы видите долг литератора?
– Дело литератора – литература.
– Афоризмы я могу прочитать у Ларошфуко, – отрезал Лыпсе, – меня интересует ваше мнение.
– Как-то совестно мне отвечать на такие выспренние вопросы, – заметил Никандров, закуривая. – Я, впрочем, попробую ответить… Щедрин писал своему сыну…
– Кто такой Щедрин? – перебил его Лыпсе.
– Это гениальный русский писатель, великий национальный писатель. Он для нас как Кон Фу-ци – для Китая, Рабле – для Франции… Так вот, он писал своему сыну, что нет на свете более почетного призвания, чем призвание литератора российского… Преклоняясь перед Щедриным, я тем не менее вынужден опровергнуть его. Кто и почему отметил литератора среди людей знамением заступника и доброго судии? Почему некий избранник должен быть заступником? А если народ не хочет, чтобы за него заступались? Да и что такое народ? Необъятность понятия всегда давала возможность появлению тиранов, логика которых конкретна и ограниченна. Почему мы должны делить мир на пассив – народ, который безмолвствует, и актив – литератора, который призван бить в колокола? А вдруг честолюбец, начав звонить в колокола, порушит устоявшееся? Но что он предложит взамен? Разрушение упоительно – вспомните игры детей, а вот как быть с созиданием?
– Значит, по-вашему, – удивился Лыпсе, – не следует звать людей к борьбе против нищеты и неравенства?
– В России вы можете набрать миллион образчиков того, что случилось после начала всеобщего зова к равенству…
– Пусть вначале будут издержки – все равно эта идея манит людей.
– А вы не большевик, Лыпсе? – спросил Красницкий.
– Вы его не пугайте, – попросила Лида Боссэ, – не надо. Каждый должен говорить то, что думает.
– Если бы этот ваш совет был принят за основу большевиками, – обернулся к Лиде Никандров, – я бы записался в их партию…
– А они в партии говорят все, что хотят, – не унимался Лыпсе, – они все время ведут друг с другом дискуссию.
– Друг с другом – может быть, – ответил Никандров, – а со мной они не дискутируют. Да и с вами не будут: поставят к стенке – и точка.
– Может быть, они правы: они хоть что-то делают, они хоть во что-то верят, а вы предпочитаете стоять в стороне…
– Вы забываетесь, Лыпсе, – снова поднялся Красницкий, – господин Никандров совершил акт высокого гражданского мужества – он бежал от рабства Совдепии, он покинул самое дорогое, что у человека есть, – родину.
– А зачем же ее покидать? Не нравится, что происходит на родине, – сражайся с этим! Бежать всегда легче.
– Видите ли, – увидев побледневшее лицо Воронцова, медленно заговорил Никандров, – в том, что вы говорите, есть много здравого. Вы, правда, судите со стороны, ибо для вас Россия – понятие абстрактное… А для нас это родина. У меня там остались друзья – в земле… Кого расстреляли, кто умер с голода, кто пустил себе пулю в лоб. Бороться с народом, который, веруя, творит ужас и хаос? Допустимо ли это для литератора? Может быть, в данном случае позиция пассивного отстранения будет порядочнее? Я мог бы писать прокламации – льщу себя надеждой, что молодежь прислушалась бы ко мне. Но пристало ли писателю усугублять кровь и вражду? Может быть, сейчас важнее другое: отстранившись, наблюдать процесс и чувствовать себя готовым в любую минуту прийти обратно, когда – не народ, нет – когда те, кто народом пытается править, поймут, что без российской интеллигенции ничегошеньки сделать невозможно, что она, интеллигенция, вынесла на своих плечах все бремя борьбы с тупостью администрации, что она, интеллигенция наша, и в народ ходила, и знание несла в самые отдаленные уголки, и на каторгу шла с гордо поднятой головой, а ведь эти самые каторжники – дети генералов, банкиров, сановников – могли прожигать время в своих усадьбах да по Ниццам разъезжать, – вот когда все это народоправители поймут, тогда надо будет вернуться домой. А сейчас – что же… Я за то, если – «молодо-зелено», но я против того, когда «молодо-кроваво»…
– Это угодно истории: молодое всегда побеждало старое. И возражать против того, что дети рабочих и крестьян становятся хозяевами университетских залов и императорских библиотек, – недостойно литератора.
– Возражать вам трудно. Вы оперируете высокими понятиями, а мне известна черная, варварская правда…
– А вы пытались помочь своему народу приблизиться к высоким понятиям, выступая против невольного варварства?
– Не я должен навязывать себя режиму, но режим обязан прийти ко мне и мне подобным за помощью, когда почувствует, что не может далее удерживать стихию вандализма… И Совдепы к нам придут. Скоро. Очень скоро…
Юрла, поначалу скептически слушавший Никандрова, спросил:
– Я боюсь пророков, но, как все слабые люди, верю им. Когда вы говорите, что нынешние народоправители России поймут вашу роль в жизни страны, – вы опираетесь на факты?
– Я опираюсь на факты…
– Вот это мне, как газетчику, интереснее. Какие именно?
– Господи, таких фактов тьма! Да что далеко ходить: сегодня со мной в поезде ехал комиссар, так и он хотел деру дать и уж наверное тут остался, в Ревеле.
Воронцов рывком встал, поднял бокал:
– Зачем мы уходим от нашей темы: литератор и власть, муза и наган? Право слово, не стоит мельчить великое… Я предлагаю выпить за тех, кто остался там, дома…
После того как выпили, Юрла, достав из кармана блокнотик, спросил Никандрова:
– Фамилию комиссара не помните? А то, может, сами о нем напишете: мы неплохо платим за хлесткую информацию.
– Я, видите ли, информации писать еще не научился.
– Тогда честь имею кланяться, – сказал Юрла, поднявшись.
Воронцов догнал его в гардеробе:
– Карл Эннович, вы про комиссара не пишите.
– Мне тогда вообще не о чем писать. Вы нашу читающую публику знаете – она не выдержит философского диалога этих гигантов.
– Лучше уж не пишите вовсе, чем эту тему трогать…
– Значит – правда? Есть такой комиссар? Узнаю ведь через полицию, кто сегодня приехал из Москвы, узнаю…
– Карл Эннович, я просил бы вас не трогать этой темы…
– Что, свой комиссар? – подмигнул Юрла, надевая пальто.
– Господин Юрла, я прошу вас не трогать эту тему.
– Все заговоры, заговоры… Надоели нам ваши заговоры, граф, хуже горькой редьки… Пора бы серьезным делом заниматься.
– Вы можете дать мне слово, господин Юрла?
Юрла для себя решил не писать об этом комиссаре, как и о Никандрове, – это было не очень-то интересно, но сейчас ему, в прошлом наборщику, выбившемуся с трудом в люди, приятно было наблюдать за графом Воронцовым, который, покрывшись красными пятнами, униженно и тихо молил его, сына петербургского плотника.
– Не знаю, господин Воронцов, не знаю… У нас свобода слова гарантирована конституцией, – куражился он, – не знаю…
Это и решило его судьбу.
Darmowy fragment się skończył.