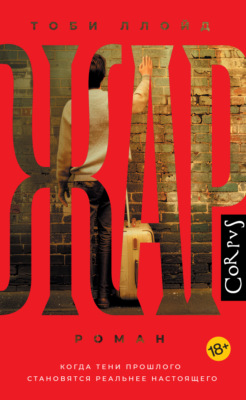Czytaj książkę: «Жар», strona 4
Глава пятая
Прихожане курили на улице у дверей, одни наряженные в соответствии с традицией, другие в повседневной одежде. Когда я проходила мимо, они что-то пробормотали. Женщина, на выступлении Шульца сидевшая рядом со мной, сейчас шагала следом.
–Они просто желают вам гут шабес. То есть, можно сказать, счастливой пятницы.
Я поблагодарила, женщина ответила: надеюсь, еще увидимся. Привратник, завидев меня, приветственно коснулся шляпы и воскликнул: «В каком-то смысле!»
Я направилась было прочь, но вдруг за шумом машин услышала доносившиеся с противоположной стороны улицы крики. Я повернула голову и увидела группу парней у выхода из «Везерспунз»15, все в кислотно-желтых цветах «Оксфорд юнайтед»16 и без свитеров, невзирая на холод.
– Эй, жиды, – кричали парни, – гребаные жиды!
Один даже ринулся вперед и швырнул в мою сторону то, что держал в руке: пластиковый стаканчик, крутясь, пронесся по воздуху, ветер отбросил его ко мне, и когда стаканчик падал на землю, я почувствовала на шее холодные брызги. Я вытерлась рукавом и увидела, что через дорогу, лавируя в потоке машин, несется какой-то парень.
Он остановился в шаге от меня, согнулся, чтобы отдышаться, и произнес:
– Извини, лапуля.
Извини?
– Тебе, наверное, противно на нас смотреть. Сегодня три – ноль, вот пацаны и расстроились. Наверное, мы выпили лишку. В общем, он не хотел в тебя попасть.
– Но попал.
– Я поэтому и извиняюсь! Чего ты так испугалась? Я же с тобой вежливо разговариваю.
Он был примерно моих лет, может, постарше, хотя едва ли из университета. Идеально очерченные брови, в ухе золотой гвоздик. Парень предложил мне выпить.
– Будьте любезны, оставьте меня в покое, – отрезала я.
–Да что я сделал-то?
Я кивнула на его дружков, те по-прежнему выкрикивали оскорбления.
– Не-а, лапуля, не-а. Ты все неправильно поняла. Они кричат не тебе. – Он указал на толпу у выхода из синагоги, шагах в двадцати от нас. – Нас бесят вот эти.
– Но я одна из них, – сказала я.
Парень скрестил руки на груди. Потом почесал голову. И наконец рассмеялся.
–А я ведь чуть не купился, лапуля! Ну ладно, мисс Гольдберг, не хотите ли что-нибудь съесть?
Я отказалась, направилась прочь, но он увязался за мной и то извинялся, то хохотал.
–Точно не хочешь чего-нибудь пожевать? А выпить? Потом будешь внукам рассказывать.
Я точно не хотела ни того, ни другого, и на углу он отстал.
– Спокойной ночи, мисс Гольдберг!
Вскоре я заметила Товию: он возвращался в колледж. Я бегом догнала его и хлопнула по плечу, чтобы он остановился.
– То есть ты не осталась потусоваться с хасидами? – спросил он.
Значит, он меня видел. Не поэтому ли так торопился уйти? Меня подмывало рассказать ему о случившемся у синагоги, но я удержалась: вдруг Товия поймет неправильно – решит, что я хвастаюсь. И вместо этого я спросила, как меня тот болельщик «Юнайтед», не хочет ли Товия выпить.
– Тут рядом «Кингз армз».
Я сказала это для проформы, уверенная, что он откажется. Но Товия, подумав, кивнул.
В пабе была толчея, но мы захватили столик по соседству с парнями в смокингах, один из них под одобрительные крики друзей выдул бокал пива единым глотком. Товия вскинул брови, а я принесла нам пинту эля и водку с колой.
До сих пор мы разговаривали разве что вскользь – стоя на пороге своих комнат, прежде чем вернуться к учебе, дожидаясь на нашей общей кухне, пока закипит чайник. И разговоры эти оказывались краткими и спонтанными. Сейчас все было иначе. Вечер пятницы, не поздно. Были способы скоротать его и приятнее, чем сидеть в пабе с Товией Розенталем.
И все же, по крайней мере, нам было о чем поболтать.
– Классная лекция, правда?
–Разве?– Товия жадно отхлебнул пива.– Не могу сказать, что мне от нее была какая-то польза.
Я изумилась. Я-то думала, лекция невольно затронула за живое всех присутствовавших в той комнате, тем более если ты религиозный еврей. Даже, пожалуй, вдохновила. То, как Шульц сплетал историю с литературой, смешивал критику и верования, апеллировал к гуманитарным наукам как к мощному средству защиты от бесчеловечных режимов.
Стараясь не раздражаться из-за безучастного вида Товии, я спросила, что же ему не понравилось.
– Да чушь все это. Нет, излагает он складно, красивые фразочки, но толку чуть. Выучите наизусть десять имен и шепчите себе перед сном. Херня полная.
– По-моему, ты немного несправедлив.
– То есть ты и впрямь намерена это делать? Заучивать имена?
Интересно, удастся ли отыскать список виленских Конов.
– Возможно, – ответила я.
–Да не будешь ты это делать.– Товия отмахнулся от насекомого.– Если бы эти имена для тебя действительно что-то значили, ты бы уже их знала. А Шульц так это представляет, будто стишки, какие-то строчки Шекспира способны противостоять пушкам и бомбам. Бред, просто бред.
Так он вел себя на коллоквиумах: обрушивал на собеседников язвительные тирады, мне об этом часто рассказывали, но своими ушами я это услышала впервые.
Я заикнулась было о власти символов, но Товия перебил:
– Беда Эли Шульца в том, что он скептик, который хочет верить. Он романтизирует религию. Сама слышала, как он рассуждал о посте в Йом-Кипур. С каким благоговением. А ему не приходило в голову, что дело не в гордости, не в набожности, а в отчаянии? У этих несчастных отняли последнюю надежду, вот они и спасались как умели – и чем, древним обрядом? Дешевым фокусом? Единственное, чем они могли умилостивить своего чудовищного Бога, – это поститься, ничего другого они не придумали.
Вот почему у Товии не было друзей на курсе, вот почему Джен, Кэрри и другие его презирали. А вовсе не потому, что его мать – сионистка, и даже не потому, что вся их семья – религиозные фундаменталисты. Общение с однокашниками должно быть приятной противоположностью коллоквиумам и семинарам: выпивка, тупые шутки, сплетни и флирт. А с Товией ты что в пабе, что на коллоквиуме. Кому это надо?
Видимо, только мне. Я впервые столкнулась с воинственным высокомерием Товии, но меня это не оттолкнуло. Мне даже впервые с момента знакомства захотелось завоевать его уважение. Он, оказывается, вовсе не робкий юноша, как я полагала. В Товии, несмотря на всю его странность, чувствовалась своего рода притягательность. Неужели другие не замечают его магнетизма?
– «Помните, помните, мы должны помнить вечно»! – продолжал Товия. – Терпеть не могу этой фальшивой духовности. Нельзя безнаказанно ворошить прошлое, за все приходится платить.
– В каком смысле платить?
– Мой дед был человеком очень религиозным. Он пережил Холокост. И в детстве он говорил мне страшные вещи, просто чтобы я не забывался.
– Например?
Товия покачал головой.
– Мало выпили.
Мало выпили? То есть после синагоги он решил надраться?
– И Шульц напомнил тебе деда?
– Нет, они совсем не похожи. Господи, да Эли Шульц еще душка. А зейде нам говорил: те, кто в лагере утратили веру, никогда и не знали Торы. Все, что Гитлер сделал с евреями, написано давным-давно. И дед был прав! Знаешь, что в книге Левит Бог говорит израильтянам? Он говорит: не будете жить по закону, отдам вас в руки врагов, и земля разверзнется у вас под ногами. А если вы и тогда уцелеете, сама земля обернется против вас и посевы ваши падут. И перед смертью матери от голода будут пожирать плоть дочерей, а отцы – сыновей. Мы будем резать своих детей – куда там Аврааму! – и жарить их на кострах. Вот что Бог сулил нашим предкам, и этот посул мы повторяем из года в год, начиная с Синая.
Товия почесал пятнышко на шее.
–Дед мой был не очень-то образованным. Учиться он бросил в четырнадцать лет, писал с нелепыми ошибками. Но башка у него варила. И о Боге он знал побольше, чем Эли, мать его, Шульц. Дедов Бог породил Гитлера, Геринга, Геббельса и пропустил мимо ушей плач Аушвица.
Я заметила, что остальные посетители паба слушают нашу беседу и, стоит мне повернуться, отводят глаза. «Неужели они разглагольствуют о Холокосте? И это в пятницу вечером…»
– Но ты же вряд ли веришь в такого Бога, – предположила я.
– Я? – Товия выпрямился на табурете. – Ты спрашиваешь меня? – Он насмешливо скривился и заговорщически подался ко мне. – Я вообще ни во что не верю.
Если подумать, я никогда не слышала, чтобы Товия рассуждал о своих религиозных взглядах. Но убеждения его матери были известны всем: об этом можно было каждую неделю прочесть в газетах. И разве в начале семестра он не потянулся к отсутствующей мезузе?
Товия отхлебнул пива. За двадцать минут он где-то в три глотка осушил две трети стакана. Прикончив остатки, он направился к барной стойке за добавкой. Вернулся, поставил передо мной водку с колой, хотя я и первую-то осилила только наполовину.
Одна мысль не давала мне покоя.
– Тогда что ты сегодня там делал? – спросила я.
– Я там был по привычке.
Объяснение неубедительное, и Товия пожал плечами. Спросил, почему я пошла туда, и я ответила, что мне интересен Шульц. И, если уж на то пошло, я еврейка. В каком-то смысле.
– Правда? – Он вгляделся в меня, словно сопоставляя это открытие с моими чертами лица. – Но не соблюдающая. Верно?
– Только по отцу, мою мать растили в католической традиции. Да и все равно они оба атеисты.
–Атеисты? Везет. И еще не по матери. То, что нацисты назвали бы Mischling. Полукровка.
Трудно сказать, оскорбилась ли я. Но мне определенно не понравилось, что на меня наклеили нацистский ярлык, и я сообщила об этом Товии.
–Расслабься, я не сказал ничего обидного. Пруст тоже был бы Mischling. Если б дожил.
– Я не читала Пруста, – равнодушно призналась я.
– Как у тебя с французским? Если справишься с двуязычным словарем, имеет смысл продраться через текст. Если нет, читай переводы Монкриффа.
Товия провел ладонью над пламенем свечи, оно задрожало, но выпрямилось. Товия убрал руку, взял стакан.
– Спасибо, но мне вполне достаточно обязательной литературы из списка.
– Да ладно. Наверняка тебе свойственна любознательность.
– С чего ты взял?
–Человек ты вроде бы интересный. Сидишь, слушаешь, впитываешь, толком не говоришь. В столовой, во дворе. Вот и сегодня пришла не почему-нибудь, а потому что тебе свойственна любознательность.– Когда он во второй раз употребил это выражение, я отметила, что Товия произносит его как-то странно, вместо «любознательность» получается «либознательность». – И ты не вписываешься в компанию – я о тех, с кем ты тусуешься, о Джене Стоквелле и этой кучке дебилов.
– Не говори так. Они мои друзья.
–Они обо мне отзываются не очень-то вежливо, – возразил Товия. – Моя мать надавила на рычаги и прочее. Я думал, ты не такая, как они.
– Ты ничего обо мне не знаешь.
– Мне просто так показалось, – пояснил Товия.
Он по-прежнему играл со свечкой. Ветерок от его очередного стремительного жеста потушил пламя. Над угасшим фитилем тонкой струйкой вился белый дымок.
– А ты очень доволен собой, – заметила я.
– Нет, я бы так не сказал.
У Товии была странная манера качать головой. Будто двигался один подбородок.
Заиграла песня, я узнала ее, но названия не вспомнила; отвечавший за музыку, кто бы он ни был, прибавил звук. Я вспомнила последний школьный год, как по вечерам торчала у входа в клубы, там, где обычно все курят, но сама не курила, только смотрела, как парочки обнимаются под фонарями. А ведь в эту самую минуту Джен, Кэрри и Руби заказывают такси на Парк-Энд, подумала я и поймала себя на том, что совершенно не хочу к ним присоединиться. За последнюю пару недель в какой-то момент пятничные тусовки превратились для меня в утомительный ритуал, и я уже не могла обманывать себя, будто мне нравится пить стопку за стопкой или в полумраке строить глазки незнакомцам. Прежде я верила, что благополучно преодолела школьные разочарования и нашла свое место здесь. Но то ли лекция Шульца, то ли водка, горячившая мою кровь, то ли уверенный взгляд Товии заставили меня усомниться в этом. Нравятся ли мне эти новые друзья? Товия резок и груб, но он по крайней мере не ожидает, что ты будешь притворяться кем-то другим. Его прямота побуждала к ответной искренности.
– Ты ведь обычно не ходишь в такие места, – сказала я. – Ты не тусовщик.
– Нет. – Его подбородок качнулся из стороны в сторону. – Но я и не обязан им быть.
Песня закончилась, ее сменила другая, громкая и незнакомая.
Я понятия не имела, о чем думает Товия; он сидел, понурив плечи. Но, кажется, именно тогда я догадалась, что он, возможно, таит в душе сильную боль. Путь, приведший его сюда, вряд ли был легок, и на каком-то его этапе, должно быть, случилось непоправимое. Я вспомнила, что знала о его сестре, и подумала о той девушке, чье лицо, полускрытое капюшоном, я увидела в день прибытия в университет.
– Похоже, твой дед был человек волевой, – сказала я, чтобы оживить разговор.
– Полная фигня, – не моргнув глазом, ответил Товия. – Да-да, я все понимаю. Но тут вот ведь какая штука. Когда я был маленький, мои родители были вечно заняты, и даже когда мать нигде не работала, она все равно была занята, а дед всегда сидел дома. Кстати, его боялся не только я. Мы нанимали женщин убирать его комнату, так он их всех распугал.
– Ну еще бы, он навидался такого…
Товия отклонился назад, хлопнул в ладоши.
– Я смотрю, тебя ни хрена не смущает, что ты говоришь очевидные вещи.
Тут нас прервали. Сидевший за соседним столиком удерживал в растопыренных пальцах четыре бокала пива, один выскользнул и разбился. Темная жидкость хлынула на пол, я положила на колени свою сумку, чтобы та не намокла. Соседний столик зашелся от смеха.
Товия прошептал мне на ухо:
–Здесь становится как-то противно.
Я согласилась с ним. Он предложил продолжить разговор в колледже за стаканчиком виски. Неужели заигрывает со мной? Да нет, решила я: он весь вечер держался то безразлично, то враждебно, то надменно.
По дороге я закурила, Товия попросил поменяться с ним местами – ветер относит дым ему в лицо, а он терпеть не может запаха табака. Я извинилась и затушила сигарету. Позже, когда мы проходили мимо старинных колледжей – темные окна распахнуты настежь, свет льется снизу на бледные стены, – Товия разоткровенничался.
Детство его было своеобразным. Родители его понимали Тору буквально, верили в его истинность, но традиции соблюдали постольку-поскольку. Какие-то чтили, дабы подтвердить взаимосвязь с Богом, про какие-то говорили пренебрежительно: это-де обывательские суеверия. То есть, с одной стороны, свинина, моллюски и ракообразные были запрещены, как и прочие виды трефного. Ежедневные молитвы считались обязательными, как и сложные ритуалы великих праздников – маца на Песах, трапезы на открытом воздухе в неделю Суккот17. С другой стороны, после смерти Йосефа Розенталя пятничные богослужения Эрик и Ханна посещали нерегулярно. Они гордились своими профессиональными и общественными достижениями и порой работали даже в шабат, если так было нужно для карьеры. Бог поймет, поясняла мать Товии. Современному еврею живется трудно.
Короче говоря, продолжал Товия, родители отличались спесью и лицемерием, и хотя беспочвенные верования порой пересиливают рациональное мышление, суетное честолюбие, как правило, пересиливало беспочвенные верования. Ни одного из детей не отдали в еврейскую школу и даже в школу, где учились главным образом евреи. Младшие Розентали посещали те школы, рейтинг которых был выше (разумеется, в пределах родительского бюджета). При этом все они с четырех лет учили иврит, Тору и Талмуд.
Товия же всегда был стихийным атеистом.
– Ты вдруг обнаруживаешь, что живешь на непонятной каменной глыбе, которая с дикой скоростью несется через космическое пространство. Вокруг тебя простирается пустота. Это знает даже ребенок. Подними глаза – вот она.
Разумеется, от родителей, прививавших Товии веру, он свои взгляды таил. До семнадцати лет. Однажды Товия решился заявить: «Мам, пап, я должен вам кое-что сказать». Потом были частые ссоры, упорный эмоциональный шантаж. Его лишили карманных денег. Отобрали кое-какие личные вещи («Мои книги!»). Товия тогда готовился поступать в университет – на литературоведа, не на историка. В Оксфорд его не взяли, и Товия решил попытаться на будущий год. Как бы сильно ему ни хотелось покинуть родительский дом, смириться с неудачей он тоже не мог. Я мечтал об университете и ни о чем больше, пояснил мне Товия.
Я спросила, ладил ли он с братом.
–Мы с братом по-разному смотрим на жизнь.
– У тебя ведь еще и сестра?
Я тогда уже знала все подробности исчезновения Элси Розенталь. История ее окончилась благополучно: через несколько дней после пропажи ее нашли живой и невредимой. Из того, что я нашла в сети, было непонятно, похитили ее или она сбежала.
Товия не отвечал, я тоже молчала.
– Значит, ты решила больше не притворяться, – наконец произнес он.
Позже мне удалось как следует рассмотреть его комнату – впервые со дня приезда. На каминной полке стояли квадратные часы, но стрелки их не двигались. В отличие от прочих студентов, Товия не стал вешать на стены ни плакаты, ни полароидные снимки школьных друзей. Ни фотографию улыбающейся девушки, с которой ходил на выпускной. На полках его были только книги, главным образом в твердом переплете, без суперобложек, увесистые тома с названиями вроде «Как функционирует язык» и «История абстрактного мышления». Несколько книг на иврите, я сразу их опознала по объемистым буквам, сборники английских поэтов – Ларкина, Кольриджа – и перевод «Энеиды». На тумбочке примостилась Библия короля Якова («Всемирная классика», издательство Оксфордского университета) с торчащей закладкой. На обложке – фрагмент Сикстинской капеллы, лик Бога: седовласый мужчина оглаживает густую бороду.
– Чтение на ночь? – спросила я.
– Знай своего врага.
Я открыла заложенную страницу и увидела, что Товия читает (или скорее перечитывает) Книгу Судей.
Мы говорили долго. Я сидела в его кресле, отвернувшись от письменного стола, а Товия на полу, прислонившись спиной к кровати. Горел верхний свет, и в комнате, невзирая на поздний час, было светло, как в больничной палате; мы допивали не то второй, не то третий стакан виски. Я разбавляла свой водой из крана и все равно была пьяная как никогда.
Настолько пьяная, что заговорила о том, чего жду от университета. О том, что в школе я чувствовала себя отверженной, а здешняя жизнь представлялась мне чистым холстом, на котором я нарисую, что захочу.
– И как, получается?
Я ответила, что судить еще рано.
– А ты? Тебе здесь в кайф?
Он пожал плечами.
–Город дивный. Уж этого-то не отнять.
Товия спросил, видела ли я памятник Шелли в Университетском колледже. Я ответила, что еще не видела, и Товия пообещал назавтра меня сводить.
– Шелли видел жизнь такой, какая она есть, – сказал Товия, – а изображал намного красивее.
Я толком не поняла, что он имел в виду, но в такой час и вдобавок в подпитии его слова показались мне вполне разумными.
Мы сидели так близко друг к другу. Я вдруг почувствовала, что наши ноги соприкасаются. Помедлив, я отодвинулась и сказала, прерывая молчание:
– Можно тебя кое о чем спросить? Тебе не хотелось бы чуть больше участвовать в жизни колледжа?
– Как это?
– Мне кажется, для тебя это удобный случай выбраться из скорлупы.
Товия скривился.
– Хочешь сказать, мне нужно шляться по вечеринкам, нажираться в сопли и лезть целоваться к девчонкам, с которыми только что познакомился?
– Все так делают.
Товия откинул голову на кровать. И произнес, глядя в потолок:
– Я не такой, как все.
– В каком смысле?
– В самом важном. Я никому не нравлюсь.
Мне ли не знать, каково это, когда над тобой издеваются. Когда мне было двенадцать, одноклассники схватили меня, связали мне шнурки и толкнули в глубокую лужу на спортивной площадке.
– Нравишься. Ты просто не пытался.
–Тебе-то откуда знать? В начале семестра я ходил на разные тусы, на ярмарку первокурсников, на приветственные коктейли и прочую хрень. Никто со мной не разговаривал. Я подумал, окей, ты новенький, не все сразу. Но вскоре другие уже встречались после занятий, таскались друг к другу в гости, а меня кто звал? Потом до меня начали доходить сплетни обо мне. Я-де чокнутый, задаюсь… но это фигня по сравнению с тем, что говорили о моей матери, моей сестре…
Даже не верилось, что Товия с его подчеркнутой независимостью и высокомерием хочет, чтобы его пригласили в гости. Я, кстати, не сомневалась, что его звали не реже прочих, по крайней мере сперва. Но он все время отказывался.
–Мне жаль, что у тебя семестр не задался,– ответила я.– Но надо попробовать снова. Мне-то ты нравишься. Разве это не в счет?
–Только потому, что ты считаешь себя глупее прочих. Я так понимаю, эта твоя неуверенность в себе тянется из семьи. А может, над тобой издевались в школе? В общем, тебя впечатляет мой интеллект, и ты думаешь, что, если бы мы подружились, это каким-то образом подтвердило бы, что у тебя есть мозги, но так не выйдет, поверь.
К концу своей маленькой речи Товия поднял голову и поймал мой взгляд. Я не отвела глаза.
–Я, между прочим, к тебе по-доброму.
Я со стуком поставила стакан виски на стол и поднялась на ноги.
– Не строй из себя святую. Ты же сама заявила этим уродам во дворе, что мы с тобой даже не друзья. Потому что я ненавижу веселье, верно? «Он типа Скруджа» – кажется, так ты сказала?
От злости и хмеля я даже не сразу сообразила, о чем он. Кровь бросилась мне в лицо.
– То есть ты подслушиваешь мои личные разговоры?
– Это просто смешно. – В его голосе сквозила усталость. – Будь так добра, свали.
Когда я выходила из комнаты, Товия одной рукой сжимал бутылку виски, другой теребил пробку. Кажется, я не собиралась так сильно хлопать дверью.
* * *
В последующие дни Товия ухитрился ни разу со мной не столкнуться. Я думала было подсунуть ему под дверь записку или послать имейл, но решила, что он виноват столько же, сколько я, а я стараюсь извиняться первой лишь когда очевидно не права. Иначе недолго стать бесхарактерной.
Чем больше я размышляла, тем больше негодовала. Кем он себя возомнил, раз говорит, что я жажду его признания? Или что я не ровня Джену и Кэрри, моим настоящим друзьям? К черту Товию. И к черту Марселя Пруста.
К среде я доделала все, что должна была в этом семестре, и у меня выдался пустой день. Семестр миновал как-то быстро. Еще два – и закончится год, треть моей университетской жизни. Меня больше всего заботило, как не потратить без пользы это добавочное время. И вот, ощущая себя более туристкой, чем когда-либо с момента приезда, я пересекла Мост вздохов, прошла по кампусу Магдален18 и полюбовалась памятником Шелли в Университетском колледже. Высеченный из мрамора поэт возлежит на бронзовой плите, которую держат два крылатых льва, внизу плачет каменный ангел. Уходила я хохоча. Перси Биши Шелли вышвырнули из университета за то, что поэт отстаивал атеизм. Неужели Товия видит себя таким?
После обеда я отправилась в книжный. Во втором семестре мы будем знакомиться с литературой ХХ века, начинать предстоит с произведений высокого модернизма: Джойс, Вулф, Элиот, Паунд. Каждый студент должен выбрать одного из этих писателей и за рождественские каникулы написать работу на две тысячи слов. Никого из них я не читала и решила взять Вулф – на том основании, что она единственная женщина.
В «Оксфаме» я отыскала и «Волны», и «На маяк»; в отделе воспоминаний взгляд мой упал на большую книгу в твердом переплете: «Геинном и после» Ханны Розенталь. В аннотации говорилось, что это биография ее свекра, главное место в ней занимает пережитое им в Треблинке. На обложке забор из колючей проволоки футов десяти в высоту, простирающийся до горизонта. На фотографии ни души, земля по обе стороны от забора пустынна. Внутри обложки другой снимок, на этот раз мужчина глубокой зимой своей жизни, глаза у мужчины запали. Очевидно, это герой книги, дед Товии. Лицо показалось мне смутно знакомым, и я подумала, что, наверное, видела его на рекламе в метро или в каком-нибудь литературном журнале. Цитата на обороте характеризовала книгу как «бесстрашное путешествие в мрачную середину прошлого века, путешествие тем более примечательное, что автор непоколебимо верит в гуманизм и ухитряется вырвать клочок надежды даже из клыков геноцида».
В середине книги на пухлых глянцевых страницах были еще фотографии. Сперва образы жизни до вторжения. Шестилетняя девочка прижимает к груди деревянную лошадку. Ветераны Великой войны19 в своей униформе. Кроткий отец с умоляющим взором ведет за руки упирающихся детей. Молодая женщина демонстрирует брошюру Герцля «Еврейское государство». Возможно, она уже готовится к путешествию на восток? Это были евреи, все до единого, и те, что останутся, и те, что уйдут. Еврейские родители, еврейские дети, не подозревающие о том, что история уже разевает пасть. Я листала страницы, трогательные снимки сменялись душераздирающими и откровенно жуткими.
Считая две книги Вулф, я потратила восемь фунтов пятьдесят пенсов.
Вернувшись в колледж, я погуглила рецензии. Одних критиков не устраивал откровенно религиозный взгляд Ханны на историю. Даже заглавие книги – в нем печи концлагерей соединились с древнееврейским названием ада – встретили в штыки: Ханну винили и в эстетстве, и в умышленном искажении истины. В целом книга понравилась верующим, атеистам – нет. Впрочем, «понравилась» – неточное слово. Верующие хвалили книгу: нравиться она не могла.
Вечером четверга я отправилась в клуб вместе с Руби, Кэрри и Дженом – последняя тусовка перед каникулами. Я твердо решила оттянуться как следует, но получился отстой: скучно, громко, все время одно и то же, гадость. Я постоянно стояла в очередях, казавшихся бесконечными – то у бара, то в туалет,– причем отличить одну от другой не представлялось возможным, и гадала, какую часть жизни люди готовы провести за распитием водки с «Ред Буллом» из пластиковых стаканчиков. По сравнению с выступлением Шульца – а я тогда впервые в жизни с неослабным вниманием слушала чью-то речь с кафедры – сейчас, в свой последний вечер в городе, я потратила время зря и дала себе слово, что это не повторится.
Я вернулась в колледж; от выпитого кофе и алкоголя мне не спалось, так и подмывало постучаться к Товии. Внезапно вчерашняя наша ссора показалась мне скорее нелепым недоразумением, чем столкновением характеров, и хотелось все исправить перед тем, как уезжать на каникулы. К счастью, мне не хватило духу поддаться пьяному порыву, и я не стала среди ночи стучать в дверь к соседу, чтобы не испортить наши отношения окончательно.
В восемь утра сработал будильник, но я отключила, а не отложила его и проспала допоздна. Когда я наконец приняла душ, оделась и наскоро собрала вещи, был уже час дня. Я взглянула на телефон и увидела несколько пропущенных вызовов от отца, он дожидался в машине.
– А ты не торопишься, – сказал он, когда я открыла пассажирскую дверь.
– Извини, пап.
– Главное, чтобы тебе было весело, – ответил отец. – Угадай, кого я только что видел.
Чуть погодя в темном костюме с юбкой появилась Ханна Розенталь собственной персоной, автор книги, которая последней встала на мою книжную полку, Ханна волокла большую часть сыновних вещей и, держась очень прямо, вышла через привратницкую. Мать Товии оказалась миниатюрнее, чем я себе представляла. За ней, потупившись, шагал Товия. Он дрыгал ногой и выглядел так, будто его все достало. Я помахала ему, но он не заметил.
–Это ее сын?– отец напоследок взглянул в зеркало заднего вида и вырулил на дорогу.– Вид у него не очень-то радостный. – Вид у Товии и впрямь был жуткий. Глаза опухли, в лице ни кровинки. В уголке рта свежий отпечаток губной помады, следствие театрального воссоединения с матерью. – Твой друг?
– Трудно сказать, – ответила я.
Дома я достала книгу Ханны, намереваясь прочесть первый абзац и определить, привлечет ли она мой интерес. Но вместо этого, не отрываясь, разглядывала фотографию на внутреннем клапане обложки. Я наконец поняла, почему лицо показалось мне таким знакомым: этот же человек сидел рядом с Товией на выступлении Шульца. Поиск изображений в интернете позволил определить, что его наряд называется тахрихим, традиционное белое одеяние, в котором хоронят евреев. А его затейливое покрывало – талит, молитвенное облачение, еврейские мальчики получают его в тринадцать лет (возраст, с которого их считают взрослыми). Усопшего заворачивают в талит и один край отрезают – в знак того, что покойник отныне свободен от прижизненных обязательств.
Darmowy fragment się skończył.