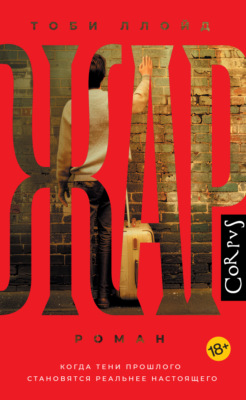Czytaj książkę: «Жар», strona 3
С Дженом мы много общались, а вот Кэрри и Руби я толком не знала и потому удивилась, что Кэрри знает, где я живу. Я далеко не сразу осознала, как тесен мой новый дом.
– Мы не друзья, – возразила я, – он всего-навсего мой сосед.
–Но ты наверняка что-то о нем знаешь, – не унималась Руби.
Все ждали, что я отвечу. А что я могла сказать? Что кофе Товия пьет без сахара и молока, а меня это почему-то бесит? Что у него не бывает гостей?
– Главное в нем то, – проговорила я, представив, как Товия в свете стробоскопа дрожит от громких басов, – что он ненавидит веселье. Он типа Скруджа, ему будто нравится быть злым.
К моему облегчению, Джен отрывисто расхохотался, а следом за ним и девушки. А я продолжала, меня упрашивать не пришлось:
– Когда мы с ним познакомились, он даже не знал, как пожать мне руку.
Я изобразила, как это было, повеселила компанию.
Кэрри, видимо, уязвило, что слушают не ее, и она вернула разговор к более серьезной теме – характеру Товии.
– Он, кстати, совсем не умеет держать себя в руках. Вы слышали, что он поссорился с доктором Бруксом и убежал с его семинара?
Я об этом не слышала и с нетерпением ждала подробностей. Но тут из аркады, ведущей к библиотеке, вышел сам Товия. Он двигался неуклюже, как всегда, в нашу сторону даже не посмотрел. Едва он скрылся в привратницкой, как все снова скрючились от смеха. Кроме меня. В таких ситуациях я всегда была Товией.
– Блин! – воскликнула Кэрри. – Как думаете, он нас слышал?
– И что с того? Мы ничего такого не говорили. Я всего лишь назвал его маму фашисткой. Так она, кхм, фашистка и есть, уж простите.
Остальные смеялись, я извинилась и ушла. Если я не друг Товии, то кто тогда ему друг? Я впервые подумала, что ему, наверное, одиноко. Он хоть и задавался, но всегда спрашивал, как у меня двигается учеба, а за его вспыльчивостью и странными манерами пряталась доброта. Как-то раз я пожаловалась на головную боль, и Товия через полчаса принес мне ибупрофен. Я удивилась, чего он так долго, и спросила: «У тебя с собой не было, что ли?» Нет, ответил Товия, я сбегал в город.
В тот вечер, когда мы столкнулись по дороге домой, он не обмолвился ни словом о случившемся во дворе. Я спросила, как прошел его день, Товия пожал плечами и с привычной церемонностью пожелал мне спокойной ночи. Значит, он, слава богу, ничего и не слышал. Время от времени мы с ним по-прежнему болтали о том о сем, но меня чем дальше, тем больше увлекала учеба, новые друзья и тусовки до ночи.
Товия же проводил время в одиночестве, в своей комнате, и вел себя настолько тихо, что трудно было понять, там он или ушел. Мне по-прежнему было стыдно за то, что я сказала Джену и остальным, но не стану притворяться, будто переживала за Товию. Не особенно одаренный в смысле навыков общения, он, несомненно, вскоре найдет таких же, как сам, среди университетских изгоев. Мне он был не очень-то интересен. Мои первые впечатления о Товии уже определились. Изнеженный религиозный мальчик, застенчивый, эрудированный, если его задеть, будет обороняться, а в остальном незаметный. Мальчик, который добился таких результатов благодаря тому, что прилежно учился в школе и никому особенно не досаждал. Не сын, а мечта любой еврейской мамы.
Глава четвертая
Так обстояли дела до одного вечера в конце ноября; семестр завершался, и я отправилась послушать рассказ Эли Шульца об осмыслении Холокоста с точки зрения философии и искусства. Место выступления было мне незнакомо: судя по адресу, оно располагалось на одной из извилистых улочек, ответвляющихся от главной. Через несколько дней надо было сдавать итоговую работу, и по-хорошему мне следовало бы сидеть в библиотеке. Однако я все же пошла на мероприятие и теперь в сумерках всматривалась в номера зданий. Ни одно из них не походило на лекторий.
Шульцем я восхищалась с тех самых пор, как летом перед выпускными экзаменами прочитала «Свет черный, свет белый». В сущности, я и в университете оказалась отчасти благодаря Шульцу: в заявлении с просьбой о зачислении я писала о его критических статьях, и на собеседовании меня расспрашивали о его взглядах. Шульцу было уже за восемьдесят, кто знает, сколько ему осталось. Я услышала, что он – редкий случай – выступит перед обществом «Бен-Шолем», и решила пойти непременно. Чистое везение, если вдуматься, ведь это общество свои мероприятия не рекламировало и о выступлении Шульца я узнала исключительно потому, что накануне в «Гринзе» это событие обсуждали два незнакомца, сидевшие за соседним столиком.
Я никогда не слышала ни об Эмануэле Бен-Шолеме, ни о его обществе и понятия не имела, что он своего рода современный пророк и основоположник небольшой ветви хасидизма, а тот, насколько я понимала, нечто вроде таинственной секты. Я ничего не знала ни об истории этого движения, ни о том, что возникло оно в штетлах Восточной Европы как абсолютно неортодоксальная разновидность религиозной традиции, основанная не на спокойной молитве, а на радости и экстазе. Пусть вас не смущают строгие наряды и старомодные бороды: хасиды отнюдь не святоши. Во время богослужений они и поют, и пляшут. А когда молитвы окончены и книги закрыты, обязанности ума уступают место обязанностям духа. Хасиды, пошатываясь, тянут религиозные напевы. Пить не обязательно, но, безусловно, так легче.
Наконец я заметила нужное здание и с опаской направилась к нему. У входа не толпились студенты, никто не докуривал сигареты, не пристегивал велосипеды к перилам (обычно перед публичными мероприятиями наблюдаешь именно такую картину). У дверей, преграждая мне путь, стоял мужчина с вьющимися пейсами, в хомбурге и черной одежде. Едва я приблизилась, как мужчина что-то сказал, язык напоминал немецкий.
– Прошу прощения? – проговорила я.
Мужчина уставился на меня сквозь круглые очки и спросил, еврейка ли я.
–В каком-то смысле. Я пришла на лекцию профессора Шульца. Это же здесь, верно?
Мужчина задумчиво повел носом.
– Лекция вам нужна? Это можно.
Я шагнула вперед, и он вскинул правую ладонь.
–Но что значит «в каком-то смысле»? Это как хомяк, воспитанный песчанками, в каком-то смысле морская свинка?
– Хомяк, воспитанный… кем?
– Евреи есть евреи, – пояснил мужчина.
Вечер был знобкий, по рукам моим бежали мурашки.
– Я не знала, что это закрытое мероприятие, – ответила я.
Я развернулась, гадая, чем занять время, раз планы мои сорвались. Но мужчина окликнул меня.
– Кто говорит, что закрытое?
Уязвленный тем, что я решила уйти, он отступил от двери и жестом пригласил меня внутрь.
– Наверх, наверх. Они, скорее всего, еще едят, но вы никому не помешаете.
И не успела я войти, как он еще раз пробормотал «в каком-то смысле» и покачал головой.
Увиденное наверху мои нервы не успокоило. Просторную комнату освещали только свечи, над ними вился дымок. Сидевшие за составленными подковой столами накладывали себе из больших мисок раскисшие салаты и маслянистые макароны. Кое-кто из собравшихся помоложе был в джинсах и цветных свитерах, большинство же было одето, как тот мужчина у входа, и все мужчины без исключения были в головных уборах. К этому моменту мне уже стало более чем понятно, что здесь отнюдь не лекторий. Во что я ввязалась?
* * *
В детстве я знать не знала, что я еврейка. Отец мой родился во Франции, во время войны, мать его была француженка, отец англичанин. По крайней мере, так ему сообщили. По-французски в доме, где рос мой отец, не говорили, о городе, где он родился, почти не упоминали. Если отца это и удивляло, он, скорее всего, объяснял это тем, что его мать искренне любила Англию, страну, которая дала ей пристанище после бегства из континентальной Европы; вполне естественно, что его мать хотела, чтобы ее сын был plus anglais que les anglais9.
И лишь после смерти моей бабки отец узнал из ее бумаг, что на самом деле и по отцовской, и по материнской линии она родом из Литвы. Англичанин, которого мой отец называл папой и который дал ему свою фамилию (его тогда уже давно не было в живых), был вторым мужем моей бабки. Что стало с родным отцом моего отца и со всей его многочисленной родней, доподлинно неизвестно, хотя догадаться нетрудно. Наверняка я знаю лишь, что все они были евреи: этот факт моя бабка всю жизнь скрывала от своего сына. И ее девичья фамилия, как выяснил мой отец, была не Дюпон, а Кон. В вещах ее обнаружился дрейдл, молитвенник на иврите и набор филактерий, предположительно принадлежавших ее первому мужу.
У родителей моих на двоих не набралось бы и капли веры, и то, что они узнали настоящую национальность моего отца, этого не изменило. Однако мой брат – ему тогда было пятнадцать – после этого открытия настолько заинтересовался религией, что настоял, чтобы ему устроили запоздалую бар-мицву в стилистике «Парка юрского периода». (У него никогда не было недостатка в кумирах-евреях помимо Стивена Спилберга, Леонарда Нимоя и Стэна Ли, так что брат очень обрадовался, узнав, кем были его предки.) Мы украсили зал папоротниками в кадках и уселись за столы с табличками «ТрицераТополь» и «Меноразавр рекс». Любое сходство с ортодоксальной церемонией было то ли поверхностным, то ли кощунственным.
* * *
С тех пор я ни разу не переступала порог синагоги и сейчас понятия не имела, как себя вести. К счастью, какая-то круглая, по-матерински заботливая женщина заметила, что я топчусь в нерешительности, и усадила меня рядом с собой.
– Рабби Майкл замечательный человек, – сказала она. – А после ужина будут и другие прекрасные выступления.
Я спросила, здесь ли Шульц. Она указала в дальний конец помещения, где, опустив глаза, сидел какой-то старик. Не его ли лицо я видела на клапанах суперобложек? Вид у старика был измученный. По лбу его и щекам змеились такие борозды, что, если вставить в них игральную карту, она не выпадет. Еды перед ним не было, и к беседам с сидевшими слева и справа он не выказывал интереса.
Чуть погодя, после вступительного слова раввина (тот говорил учтиво, однако с запинкой), Шульц поднялся с места и прошаркал в переднюю часть комнаты. Его вел под локоть мужчина с лицом цвета лопнувшего граната. Но когда Шульц открыл рот, помощь ему уже не потребовалась.
–Я хотел бы начать со старинного предания. Перенеситесь мысленно в середину восемнадцатого века, в пору, которую мы называем «эпохой Просвещения». По всей Европе наблюдается невероятный прорыв в естественных науках, философии, политологии. Кардинально меняется и мышление, и общественный порядок. А где-то в Королевстве Польском еще пребывает среди живых Исраэль Бааль-Шем-Тов, рассказывает истории у очага и день ото дня обретает новых последователей. В ту пору некоторые, перекрикивая грохот прогресса, еще рассуждали о чудесах и волшебстве.
И вот однажды вечером по проселку ехали два мудреца. Звали их ребе Элимелех и реб Зуся. Был пятничный вечер, почти как сегодня, дул ветерок, стояла лютая стужа, темнело, и двое мужчин понимали, что им надо где-нибудь остановиться, чтобы отдохнуть и встретить шабат. Вскоре они набрели на небольшой постоялый двор и договорились с хозяином, что заночуют на первом этаже возле камелька. Заплатить за комнату им было нечем, но им все равно разрешили остаться. Древний обычай велит предоставлять кров ангелам, переодетым путниками. Два мудреца легли спать, деревню окутала тишина. Но среди ночи оба проснулись в одно и то же мгновение. Ребе Элимелех признался, что его ни с того ни с сего обуял несказанный ужас. Реб Зуся почувствовал то же самое. «Не уйти ли нам?» – предложил Элимелех. – «Да, причем сию же секунду», – ответил реб Зуся. И хотя ночь была беззвездная, студеная и опасная, мудрецы отправились дальше, и только бледная луна освещала им путь. О том, что было после, можно только догадываться. Но я скажу вам, где они остановились. В небольшом южнопольском городке под названием Освенцим. Или Аушвиц, каким через полтораста лет узнал его весь мир.
Кое-кто из присутствующих закивал: мол, слышали мы такое. Много лет спустя мой друг Джим Барански расскажет мне свою версию этой истории, в ней все было наоборот. Барански был гобоистом и выступал по всей Европе. И однажды в Вене он с товарищами-музыкантами отправился в старую пивную отметить премьеру. Дело было в конце семидесятых. За смехом и оживленными разговорами Барански вдруг ощутил сильнейшую боль: грудь его словно зажало в тиски. Воздуха не хватало, и он испугался, что завтра не сможет играть. Он вышел на улицу, сообщил о случившемся подруге, не из числа музыкантов, а местной, с которой познакомился в первый приезд в Австрию. И эта женщина рассказала ему, что некогда в этой пивной любили бывать нацисты. Ходили слухи, что некий садист однажды привел еврея, велел ему лечь на пол и поставил ему на грудь табурет. После чего предложил своим товарищам одному за другим подниматься на табурет, пока еврея не раздавили насмерть.
–Чему учит нас эта история?– спросил Шульц.– Что она говорит нам? Что для цадика нет различия между прошлым и настоящим, что, если смотреть глазами Бога, вспомнишь будущее, и прошлое развернется перед тобою? Тогда почему нельзя было это остановить? Бог ведь знал, что будет. Значит, Бог попустил, чтобы это случилось. Что делать с подобной мыслью? Как нам и дальше жить евреями, зажигать шабатние свечи, отделять милхедиг от фляйшедиг10, обрезать наших сыновей?
Пала ночь. Древнее лицо Шульца в дымном свете отливало бронзой. Я огляделась, надеясь, если честно, увидеть других неверующих, пришедших на лекцию, а не на ужин. Мне казалось, присутствие одного-двух единомышленников уймет мое растущее беспокойство.
– Но и противоположная позиция не менее убедительна. Существуют письменные свидетельства, что даже в лагерях были те, кто постились в Йом-Кипур, мужчины и женщины, изнывающие под бременем голода, отказывались от миски супа ради соблюдения духовных обетов, хотя прекрасно осознавали, что это решение на день приблизит их к смерти. И кто мы такие, чтобы отворачиваться от Бога, если даже эти живые мощи не утратили веру?
И здесь мы подошли к парадоксу. Жить как еврей невозможно, и жить не как еврей в равной степени невозможно. Оба пути возмутительны, оба оскорбляют мертвых. Но сегодня мы с вами поговорим о том, возможно ли разумно рассуждать о Холокосте. Некоторые мыслители утверждают, причем весьма убедительно, что это невозможно…
– И мыслительницы, – вставила моя соседка, и на нее громко шикнули.
–Теодор Адорно писал, что после Аушвица не может быть поэзии. На земле творился ад, теперь что-то должно уйти. Никаких больше сонетов, никаких баллад, никаких од, даже элегий мертвым, лежащим в могилах. И правильно, скажем мы, и справедливо. Но факт остается фактом: за последние полвека написали немало отличных и даже гениальных стихотворений. В одной только английской поэзии был Тед Хьюз с его неординарным мифическим воображением, были яростные песни Джона Берримена, была умная и проницательная Элизабет Бишоп. Быть может, Адорно попросту ошибался?
Шульц примолк, обвел взглядом слушателей, давая понять, что вопрос не совсем риторический.
–Я скажу больше. Гениальный поэт и химик Примо Леви в сорок пятом году вышел из лагеря и написал сотни страниц о том, что там творилось,– о живых трупах, о конвейерах убийств. И даже он утверждает, что выжившие – не истинные очевидцы, по-настоящему ужас происходившего постигли те, кто покинули лагерь через трубы, те, кто чернили воздух и усеивали землю своим пеплом. Утопленные, уморенные голодом, удушенные, раздавленные. Молчание – вот единственный достоверный рассказ, заявляет Леви. Еще один парадокс! Леви всю жизнь был атеистом, но явно обладал склонностью к талмудическим хитросплетениям.
Шульц впервые улыбнулся.
– И что тогда я здесь делаю, спросите вы меня. Я пришел молчать или говорить? Если молчать, то зачем тогда я пришел? Но если я намерен говорить, что могу я сказать вам такого, чего не сказал Примо Леви, я, которого там не было?
В комнате было душно от многолюдья и жара свечей, по шее моей тек пот. Голос Шульца с легким акцентом, пришедшим из идиша, его родного языка, был звучен и чист. Он говорил без бумажки, устремив взгляд на стену за моею спиной, порой медленно опускал утомленные глаза, но тут же вновь поднимал. В зале ерзали, скрипя стульями. Шульц развивал свою главную тему, то, что он назвал «невозможностью свидетельства», рассуждал о тщетности и одновременно необходимости памяти и наконец подобрался к головокружительной кульминации.
–Память – последняя наша защита перед лицом зла. Оруэлл это знал. Окончательная победа Большого Брата заключается не в уничтожении человеческой сексуальности, а в отмене прошлого. В эти дыры памяти утекает сама история. Это знал и Шекспир. Что говорит Призрак Гамлету на прощанье? Он только что открыл сыну, что трон узурпировал безжалостный братоубийца, опасный авантюрист. Пожалуй, своего рода Гитлер шестнадцатого столетия. И все же последние слова Призрака обманывают ожидания: он не просит ни отомстить, ни убить узурпатора и восстановить справедливый порядок. Нет, просьба его куда скромнее и трогательнее: «Помни обо мне». Вот что сказал Призрак: «Помни обо мне», – и канул в безвременный сумрак смерти11. Помни обо мне. Помни. Мы обязаны помнить. Другого оружия у нас нет.
Я слушала как зачарованная. Меня не смущало ни то, что сидевшая рядом со мною женщина то и дело цокала языком, ни то, что нетерпеливые собравшиеся ерзали на скрипучих стульях. Эта пылкая речь отличалась от всего, что я слышала в университетских лекториях. Шульц не задавался вопросами, чтó понимать под литературой и совпадает ли подлинный смысл произведения с тем, что вложил в него автор. Вместо этого он произнес ни много ни мало проповедь, дабы в премудрости мертвых отыскать способ противодействовать злу. Мне показалось, это именно так.
Однако восторг мой омрачало смущение. Я пришла в одиночку и была здесь незваной гостьей. Я не знала иврита, а о еврейских верованиях и традициях имела лишь поверхностное представление. Бабка моя вынужденно скрывала от всех, кто она такая на самом деле. Но какой неизвестной ценой она из Кон сделалась Дюпон?
У нашего рассказчика, безусловно, была собственная история бегства из Европы. Шульц был единственным сыном, в 1939 году родители отправили его прочь из тогдашней Чехословакии. После войны он один-единственный раз вернулся в страну, где родился, ему тогда было шестнадцать. Уезжал он десятилетним и теперь узнал, что его бывшие одноклассники все до единого мертвы или пропали без вести. Целая параллель еврейских мальчишек оказалась убита Гитлером. Их бледные лица сохранились лишь на памятной фотографии: школьный класс призраков, расставленных в два ряда, повыше ростом стоят, пониже сидят перед ними. Посередине учитель, усатый, в пенсне, весь достоинство – и беспомощность.
Под конец вечера Шульц поделился советом, который семьдесят с лишним лет назад получил от родной бабки и которому Шульц, по его мнению, был обязан и своим спасением, и долгой жизнью. «Если ты еврей, – сказала ему старуха, – и у тебя есть мозги, ты будешь делать две вещи. Учить языки и собирать паспорта».
Эту фразу встретили одобрительным бормотанием. Шульц заверил, что бабкина мудрость, насущная в тридцатые годы, актуальна и по сей день.
–В конце концов, жизнь по-прежнему жизнь. И люди, боюсь, по-прежнему всего лишь люди. Говоря языком теологии, Машиах еще не пришел.
Это утверждение, высказанное вполне серьезно, публика встретила доброжелательным смехом. И только тогда я заметила в дальнем конце комнаты Товию, он раскачивался на стуле и даже не улыбнулся. Справа от него сидел пожилой господин; некогда его лицо, судя по волевому подбородку, было красивым. Мне показалось, он чем-то похож на Товию: у обоих нос с горбинкой. Старик, не смущаясь условностями, отступил от стиля одежды, принятого у ортодоксов: на нем был широкий белый кафтан, на плечах – сине-белое покрывало с бахромой по краям12. Приглядевшись, я обнаружила в его наряде изъян: с одного краю он был разорван. Старик подался к выступающему, опершись для поддержки на Товию. Тот в ответ со стуком опустил передние ножки стула на пол.
Я потеряла нить того, о чем говорил Шульц, а он уже заканчивал. Завершил выступление он извинением. Боюсь, я не сумел выразить то, ради чего пришел, сказал Шульц, надеюсь, оно все равно этого стоило.
–Одна последняя мысль – и я вас оставлю,– произнес он.– Идея, пожалуй что, бесполезная, просто пришла мне в голову. Но попробовать, может, надо. Я прошу вас найти десять имен, всего десять из шести миллионов. Списки можно взять где угодно. И если каждый из нас, присутствующих здесь, запомнит десять имен, это будет уже что-то. Немного, но что-то. Время от времени повторяйте в уме эти имена, размышляйте о том, что стало с ними, с людьми, чьи имена украли, заменили номерами, выколотыми на руках. Тем именам суждено было кануть в небытие и навсегда стереться из памяти. Но мы должны постараться запомнить. Что ответил Гамлет на наказ призрака своего отца? «Помнить о тебе? Да, бедный дух, пока гнездится память в несчастном этом шаре»13. Давайте же помнить вечно, пока память гнездится в нас. Шабат шалом.
Последовало короткое ошарашенное молчание, затем грянули аплодисменты и на помощь к Шульцу рванулся раввин. Едва Шульца усадили, он склонился к синагогальному ковчегу14 и опустил голову.
Раввин поблагодарил нас за то, что пришли, предложил остаться и выпить. Мне не терпелось уйти; я заметила, что Товия пробирается к двери. Меня удивило, что он уходит без старика, сидевшего рядом с ним, но, всмотревшись, я не увидела в комнате никого, кто был бы в белых одеждах.