Мясной Бор
Teksti czytaj za darmo:
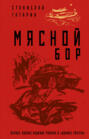


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1160 str. 1 ilustracja
- Kategoria: powieść historyczna, książki o wojnie, literatura 20 wieku
– А я был там недавно, герр оберст-лейтенант, – сказал Вальтер, – и в их пресловутом Петербурге тоже. Механизм русского фанатизма, связанного с этим городом, имеет глубокие национальные и исторические корни. Начиная с царствования Петра Великого Россия всегда была государством с двумя столицами. Так было и после большевистского переворота в октябре семнадцатого года. И если красное правительство перебралось вскоре в Москву, Петербург, который они переименовали в Ленинград, по имени их главного идеологического и политического вождя, остался столицей революционного духа, что ли… В этом весь секрет, герр оберст-лейтенант.
– Весьма интересно, штурмбаннфюрер. Впрочем, я и сам мыслил примерно так же, но так четко формулировать свои соображения не приходилось.
– Видите ли, нет ничего опаснее переносить собственные, присущие своему народу традиции и особенности на другую нацию, да еще ежели ты находишься в состоянии войны с нею. У русских все иначе, чем у нас, немцев. Как единая нация они сложились гораздо раньше, когда после татаро-монгольского нашествия выдвинулись московские князья и стали собирать вокруг себя русские земли. Поэтому Москва для русского вообще – символ родины. А для советского русского, для любого коммуниста Ленинград – колыбель революции.
У нас иначе. Мы, объединенные лишь в прошлом веке необыкновенным гением и твердой рукой «железного канцлера», мыслили по-другому. Для баварца символом родины является Мюнхен, для меня, саксонца, – Дрезден. Жители Гамбурга, Любека и других городов, некогда обладавших статусом «вольных», вообще знать не хотят ни о каких столицах. И все вместе мы недолюбливаем, мягко говоря, Берлин, нашу имперскую столицу, ибо этот город напоминает саксонцам, мекленбуржцам, вюртембержцам, баварцам и жителям прочих земель о прусском засилии и диктате.
– Поосторожней, штурмбаннфюрер, – добродушно осклабился Шиммель. – Вам разве неизвестно, что я пруссак?
– Почему же, конечно, известно, я знаю даже, что до начала войны на востоке вы руководили разведывательной школой под Кенигсбергом. Но мы с вами люди особой породы, которые хоть и носили, быть может, в юности нацистскую охотничью шляпу с кисточкой, сейчас для нас основополагающей является жизненная формула Третьего рейха, которую подготовил своим учением о тотальной войне Людендорф и четко определил наш фюрер: «Один народ – одно государство – один вождь».
Вальтер Гиллебранд эффектно, с некоторым пафосом закончил последнюю фразу и умолк. Воспользовавшись паузой, Шиммель предложил собеседнику рюмку коньяку.
– Благодарю вас, и еще кофе, пожалуйста, – отозвался Шварц. – Русские пьют, как правило, чаи. И я соскучился по чашке доброго кофе. Надеюсь, у вас натуральный, господин Шиммель?
– Вы, штурмбаннфюрер, меня обижаете, – сказал начальник абверкоманды-104, вызвал адъютанта и отдал необходимые распоряжения.
И только сейчас Стрибог почувствовал, что окончательно адаптировался, что сейчас он настоящий Шварц, будто и не был еще несколько дней назад интендантом Одинцовым.
Александр Георгиевич Шашков оставил подопечного, Стрибога, на берегу реки, в одном из разрывов линии фронта, между деревнями Червинская Лука и Малая Бронница.
– Это берег реки Тигола, – сказал начальник Особого отдела разведчику. – На всякий случай продвиньтесь вперед, вдоль реки, километра на два-три, чтобы вас свои в плен не взяли, все-таки от наших позиций недалеко. Но и не уходите слишком, можете напороться на посты противника. Не разобравшись, откроют огонь, потом и доказывать будет некому, что вы не верблюд. Они сами появятся, тогда и обнаружьте себя.
Дмитрия Одинцова, теперь Вальтера Гиллебранда, нашли солдаты одного из пехотных батальонов, входивших в группу «Кехлинг». Немцы появились в середине дня, когда Вальтер Гиллебранд едва не закоченел, хотя и одет был в русский полушубок – подарок главного чекиста Второй Ударной. Все эти долгие часы Шварц занимался тем, что старался стереть из памяти, запрятать глубже приметы Дмитрия Одинцова, становясь все больше и больше Вальтером Гиллебрандом.
Собственно говоря, он мог особенно и не стараться, ведь немецкие его начальники знали, что их первоклассный агент разыгрывает в тылу русских роль своего двоюродного брата по матери. И Дмитрий Антонович Одинцов существовал на самом деле. Это был надежный и проверенный человек, ради пользы, которую он сможет принести родине, он отказался от своего настоящего имени. Осенью прошлого года, как инженер одного из оборонных заводов, мнимый Одинцов был эвакуирован из Москвы и жил сейчас в Свердловске. Пожелай Вильгельм Канарис или отвечающие за благонадежность его сотрудников гестапо проверить Вальтера Гиллебранда, а такое не исключалось, на Среднем Урале они нашли бы Одинцова, сына Антона Аристарховича и Елены Станиславовны.
Так что какие-то следы жизни на территории русских, многонедельного общения с ними вполне могли сохраниться в поведении Шварца, и это было бы легко объяснимо. Но Вальтер Гиллебранд не хотел рисковать. Он понимал, что лучше не подвергать своих ретивых коллег искушению.
…Немцы шли туда, где в густом ельнике на берегу Тигоды укрывался Вальтер Гиллебранд. Они громко разговаривали и чему-то смеялись.
«Черт побери, – недовольно подумал Шварц – теперь он и думать старался исключительно на немецком языке, – никакой дисциплины. Русские рядом, а они разгуливают, будто в Тиргартене».
Вальтер выждал, когда расстояние между ельником и солдатами сократится до пятидесяти шагов.
– Achtung! – закричал он вдруг, не выходя, впрочем, из укрытия, чтобы какой-нибудь новобранец с перепугу не всадил в него очередь. – Внимание… Здесь находится германский офицер!
Автоматчики перестали галдеть. По команде старшего, им был унтер-фельдфебель Иоахим Буле, они рассыпались цепью и стали окружать то место, откуда послышался голос.
– Не стрелять! – снова крикнул Гиллебранд. – Здесь офицер вермахта…
– Выходите! – держа автомат наготове – от этих русских всего можно ожидать – отозвался Буле. – Вы ранены?
Вместо ответа Вальтер сбросил полушубок и остался в мундире гауптмана, которым наделил его Шашков. Он двинулся из ельника, стараясь шуметь побольше, вышел на открытое пространство и остановился. Буле с нескрываемым удивлением смотрел на него.
– Откуда вы взялись? – спросил унтер-фельдфебель. – Я вас не видел в батальоне… Кто вы и откуда?
– Из Москвы, – сказал, улыбаясь, Вальтер.
Солдаты засмеялись.
– Молчать! – крикнул Иоахим Буле. Удивление его сменилось подозрением. – Предъявите документы!
Гиллебранд шагнул к Буле, на ходу засовывая руку во внутренний карман мундира.
– Стоять! – крикнул унтер-фельдфебель, которому бог знает что почудилось в невинном жесте Шварца. – Руки за голову! Обыщите этого человека…
– Перестаньте валять дурака, фельдфебель, – сказал Вальтер, не пытаясь больше залезть в карман, руки на голову класть он, разумеется, тоже не стал. – Я безоружен, а вас целых два десятка. Свой документ я могу показать только вам. Идите ко мне…
Буле колебался. Этот гауптман, торчащий здесь на довольно крепком морозе в одном мундире, был весьма подозрителен, хотя, с другой стороны…
– Смирно! – пронзительно заорал Гиллебранд. Иоахим и солдаты вздрогнули, вытянулись. – Как говоришь с офицером, болван! Подойти ко мне! Марш!
Буле повиновался, но, идя к офицеру, повернул голову вправо и влево, давая понять солдатам, что командам офицера надо, конечно, подчиняться, а все-таки не хлопайте ушами.
Тем временем Вальтер достал документ, который показывал Александру Георгиевичу, и сунул под нос унтер-фельдфебелю.
– Теперь понятно? – спросил Шварц, складывая свой мандат и пряча в карман.
– Так точно, господин гауптман! – ответил Буле и прибавил: – Прошу извинить – рядом передний край, бывает, просачиваются русские.
– Неужели я похож на русского? – засмеялся Вальтер.
– Никак нет, господин гауптман…
Буле ухитрился при этом подумать, что раз он идет с той стороны, то просто обязан быть похожим на русского, но тут же мысленно оборвал себя, не твое, мол, это дело.
– Чем вы занимаетесь здесь? – спросил Гиллебранд.
– Патрулируем открытый участок, – ответил унтер-фельдфебель. – На случай появления здесь русских.
– И при этом рассказываете анекдоты? Хохот ваших солдат, фельдфебель, слышен, наверное, в Малой Вишере… Выделите мне для сопровождения двух солдат! Пусть доставят к командиру полка… И прикажите подобрать мой полушубок. Он там, где я ждал вас.
Из штаба полка Вальтера отвезли в дивизию, где он смог связаться с Сиверским. Ему сообщили, что его выехал встретить капитан Людвиг Шот, начальник абвергруппы-112, она располагалась в деревне Казево, в четырех километрах от штаба генерала Линдеманна, недавно принявшего вместо фон Кюхлера Восемнадцатую армию.
26
Говорить с Линдеманном Вальтер отказался.
– Пока не увижу подполковника Шиммеля – никаких встреч, никакой информации, – заявил он капитану Шоту. – Надеюсь, вы не успели доложить командующему о моем появлении с той стороны?
– Разумеется, нет, – обиженно проговорил начальник абвергруппы-112, снимая пенсне и подслеповато щурясь на Гиллебранда. – Ведь я не подчинен Линдеманну, а придан его армии. Что же касается вас, Гиллебранд, то вами вообще управляют издалека, ваше право не проронить здесь, в этом пекле, ни слова, а лететь с докладом прямо в Берлин. Но мне представляется целесообразным поставить командующего армией в известность по поводу тех каверз, которые затевают русские против его дивизий. Если, конечно, вы располагаете…
– Я многим располагаю, капитан, – прервал его Вальтер – Но… Словом, подождем Шиммеля.
Гиллебранд резонно считал необходимым говорить только с фон Кюхлером. Командующий группой армий «Север» имел непосредственный выход в Ставку фюрера, он мог связаться и с самим Гитлером. К чему тогда промежуточные инстанции вроде Линдеманна?
– …Сомневаться в серьезности намерения русских, – сказал Гиллебранд. – Да нет никаких оснований сомневаться в этом.
– Вы так считаете, штурмбаннфюрер? – спросил фон Кюхлер.
Он знал, как яростно атакуют позиции обеих его армий русские, в ряде мест они прорвали оборону и успешно продвигаются вперед. Положение становилось угрожающим. Зимний штурм Петербурга приходилось откладывать на неопределенный срок, теперь не до того… Особенно беспокоила командующего Вторая Ударная армия. Если не удастся остановить ее наступление, прямо нацеленное на Петербург, придется просить у фюрера резервы. Но что затеяли русские южнее озера Ильмень? Активность их в этом районе, у Старой Руссы и Демянска, постоянно нарастает… Что расскажет ему этот разведчик в эсэсовской форме, только что вернувшийся из логова красных?
– Вы помните, экселенц, как дрались русские у стен Петербурга осенью прошлого года? – сказал Гиллебранд. – Должен признать, что энтузиазм их нисколько не оскудел за эти недели. Я был в этом городе недавно, экселенц… Да, там можно увидеть на улицах трупы людей, умерших от голода. Русские медики называют это формой И – голодный безбелковый отек, смерть при этом наступает внезапно…
Был я и в частях Второй Ударной армии генерала Клыкова, которая рвется сейчас к Петербургу. И среди жителей города я не обнаружил никаких следов паники или смятения. А солдаты Второй Ударной, кстати говоря, довольно плохо снабженные продовольствием и боеприпасами, будто одержимые, дерутся с отборными нашими дивизиями, осмысленно дерутся, ибо каждый из них знает, что воюет за освобождение города-символа. Их комиссары всерьез распропагандировали солдат, закрепляя в сознании убеждение, что любой снаряд, выпущенный нами по Второй Ударной армии, – это снаряд, который не полетел в сторону Ленинграда…
– В чем природа такой жертвенности, штурмбаннфюрер? – спросил фон Кюхлер.
Командующему хотелось добавить, что порой ему становится жутко в этих проклятых лесах и болотах, заваленных снегом и скованных морозом, жутко не от сумасшедшей и дикой природы, а от неких флюидов ненависти, которые источают здесь каждая изба, дерево, любой русский, сама земля и даже небо, оно всегда угрюмо и неприветливо в России, есть ли на нем солнце, нет ли его – все равно…
Но фон Кюхлер промолчал, а Вальтер Гиллебранд пожал плечами и подумал, что главного он командующему еще не сказал, надо ждать, когда тот сам подведет к этому разговор.
– Что вы можете сказать о перспективных планах противника? – спросил фон Кюхлер.
– Тут не нужно гадать, экселенц. Я располагаю проверенными сведениями о намерениях русских. Против группы армий «Север» действуют сейчас три фронта – Ленинградский, который пытается своей Пятьдесят четвертой армией пробиться к городу извне, Волховский и Северо-Западный. Задача Волховского фронта вполне понятна. Главное для Мерецкова – заставить Восемнадцатую армию отказаться от окружения Петербурга и обойти войска генерала Линдеманна с юга. Четвертая армия соединяется с Пятьдесят четвертой в совместном наступлении на Тосно, и затем они вместе движутся к группе войск противника, прижатой нами у Ораниенбаума. Пятьдесят девятая армия наносит фронтальный удар на Северский и дальше, в направлении Волхова. Вторая Ударная, взломав оборону на линии Спасская Полисть – Мясной Бор – Подберезье, что она уже успела совершить, поворачивает в юго-западном направлении, на Лугу. В это же время Северо-Западный фронт генерала Курочкина силами Одиннадцатой армии наступает восточнее Старой Руссы в южном направлении, атакуя позиции Шестнадцатой армии. Ударом вдоль реки Ловать и через юго-восточную часть озера Ильмень Северо-Западный фронт окажет помощь армиям Мерецкова. Курочкин будет в то же время стремиться установить связь с северными крыльями русских армий, которые в районе Осташкова рвутся на Холм. Этим двойным ударом, который противник нанесет с юга и севера, русские хотят уничтожить два армейских корпуса Шестнадцатой армии между Валдайской возвышенностью и озером Ильмень, если намеченные операции увенчаются успехом…
– Группа армий «Север» перестанет существовать. Вы пришли к такому выводу, штурмбаннфюрер? – спросил фон Кюхлер.
– Делать выводы – ваша прерогатива, экселенц, – позволил себе усмехнуться Вальтер.
– Не скромничайте, – проворчал командующий. – Ваша информация бесценна и заслуживает высокой награды. Я сам позабочусь о ней…
– Прошу вас, экселенц, ничего не предпринимать, – встревожился Вальтер. – Видите ли, эта беседа наша… как бы вам сказать… носит приватный, что ли, характер. В первую очередь я должен был проинформировать берлинское начальство. Но я прежде всего солдат, экселенц, солдат Германии. И посчитал нужным поделиться своими опасениями с вами, человеком, который решает судьбу рейха здесь, на этом ответственнейшем и труднейшем участке Восточного фронта, я хотел…
– Остановитесь, штурмбаннфюрер, – поднял руку фон Кюхлер. – Понял вас. Никто о нашем разговоре не узнает. Лишь одно соображение… Я немедленно докладываю в Ставку фюрера о полученных от вас сведениях и требую необходимые резервы. Придется провести передислокацию и снять какие-то соединения из-под Петербурга, дивизии русских в городе истощены и обескровлены, они нам сейчас не опасны. А вот те, кто идет с востока…
«Клюнул! – пронеслось в сознании Гиллебранда. – Клюнули, господин генерал-полковник… Теперь они все всполошатся и забудут на время про Ленинград. Вторая Ударная вызвала огонь на себя… А я сейчас подлил масла в этот огонь. Но что делать? На войне как на войне».
Он вздохнул.
Фон Кюхлер продолжал:
– Естественно, меня спросят об источнике этой стратегической информации. Кстати, штурмбаннфюрер, как вам удалось раздобыть ее? Когда вы расписывали далеко идущие планы русских по разгрому моих войск, я, признаться, думал: присутствовали ли вы на совещании в Кремле?
– Ну что вы, экселенц, – грустно улыбнулся Шварц, – как можно… Ведь если бы разведчики получали такую возможность, то войны не возникали бы вообще. Они начинались и заканчивались бы на картах…
«Редкий случай в истории разведки, – подумал он, – когда истина служит в качестве дезинформации. Что ж, в борьбе с таким врагом хороши все средства…»
«Дьявольская работа у этих людей, – думал тем временем фон Кюхлер, – но если они попадают в точку, один вот такой штурмбаннфюрер, или кто он там есть на самом деле, равноценен армии. Да, обстановка предполагается более серьезная, нежели виделось мне. Необходимы резервы! Придется просить фюрера о личной аудиенции, надо самому лететь в Ставку!»
– А что касается источника, экселенц, – говорил меж тем Гиллебранд, – то сошлитесь на подполковника Шиммеля. В конце концов, он здесь главный представитель Управления абвер-1, на нем лежит задача обеспечения группы армии «Север» разведывательными данными. Вот и будем считать, что начальник абверкоманды-104 обеспечил… Ему и награда по заслугам.
Командующий с нескрываемым интересом посмотрел на Гиллебранда.
– Странный вы человек, штурмбаннфюрер, – сказал он и принялся протирать монокль.
– Фридрих Ницше, экселенц, говорит, что человек был поначалу верблюдом и носил тяжести. Потом стал львом и, наконец, сделался ребенком. Наш фюрер учит всех нас, как превратиться во взрослого человека. Что же касается меня, то я – подросток накануне конфирмации.
– Вы католик? – спросил фон Кюхлер.
– По отцу, экселенц. Мать исповедовала православие. А я член НСДАП…
– Позвольте, – воскликнул командующий, – но православие…
– Исповедуют русские, – спокойно проговорил Гиллебранд. – И еще греки, болгары, южные славяне и ряд кавказских народов.
– Значит, ваша мать…
– Русская, – подтвердил Вальтер и улыбнулся: – Может быть, поэтому я показался вам странным, экселенц?
Фон Кюхлер не успел ответить.
Открылась дверь, заглянул адъютант, попросил извинить его.
– Для господина командующего сообщение особой важности! – срывающимся голосом произнес он.
– Давайте, – коротко бросил генерал-полковник и протянул руку.
Пока он читал, адъютант стоял, вытянувшись рядом, искоса поглядывая на штурмбаннфюрера.
– Идите, – сипло проговорил фон Кюхлер, голос у него сорвался, и командующий закашлялся. – Идите прочь!
Адъютант сорвался с места и исчез.
Фон Кюхлер снова углубился в чтение, потом отвел глаза, достал было монокль, повертел в пальцах, будто недоумевая, что это такое у него в руке, раздраженным жестом сунул монокль обратно, поднялся и стал ходить по кабинету.
Потом подошел вплотную к Гиллебранду, который встал, едва поднялся со стула генерал-полковник.
– Знакомы вы со Сталиным или нет, не знаю, – сказал он. – Только вы дьявольски осведомленный человек, штурмбаннфюрер. И ваши мрачные пророчества начинают сбываться… Это сообщение генерала Буша. Крупные силы русских, именно те, которые наступали в южном направлении от Старой Руссы, прорвали оборону и, не встречая достойного сопротивления частей Шестнадцатой армии, вышли к нам в тыл западнее долины реки Ловать. Навстречу им устремились русские дивизии, продвигавшиеся из района города Холм на север. И вот сегодня, восьмого февраля, противник окружил возле Демянска шесть дивизий и две бригады Второго и Десятого армейских корпусов… Сто тысяч солдат и офицеров вермахта попали в «котел», штурмбаннфюрер! Сто тысяч! Что я теперь скажу фюреру, мой бог…
27
К началу февраля тяжелые бои на всех участках территории, которую Вторая Ударная армия освободила от захватчиков, еще более ожесточились. Кавалерийский корпус Гусева, в который входили 87-я и 25-я кавалерийские дивизии, находившиеся до того в резерве Мерецкова, и 111-я стрелковая дивизия полковника Рогинского, войдя в прорыв у Мясного Бора, стали стремительно продвигаться в северо-западном направлении, охватывая с юго-запада чудовскую группировку немцев. Конники Гусева шли на Ольховку и Финев Дуг.
Противник в спешном порядке ставил на пути кавалеристов заслоны, но пока их относительно легко сбивали, и за пять дней корпус продвинулся на 45 километров от Мясного Бора.
Сразу наметилась определенная закономерность в поведении обороняющихся немцев. Когда кавалерийский корпус, а также идущие на острие главного удара 327-я дивизия Антюфеева и 59-я стрелковая бригада продвигались на север и северо-запад, все шло относительно нормально. Немцы оказывали сопротивление, только его хотя и с трудом, но преодолевал яростный и неудержимый авангард Второй Ударной. Стоило же атакующим взять правее, попытаться приблизиться к Октябрьской железной дороге и начать двигаться в этом направлении, как сопротивление гитлеровцев резко возросло. Создавалось впечатление, будто противник стремится выжать армию генерала Клыкова на малонаселенные территории, покрытые гиблыми болотами, лишенные транспортных магистралей. Вскоре русские полностью овладели железной дорогой Новгород – Ленинград на участке село Гора – станция Еглино. Но беда для наступающих была в том, что эта дорога вела в никуда.
На юге был занятый врагом Новгород, на Севере – блокированный Ленинград. До следующей дороги, лежащей западней ведущей из Ленинграда в Сольцы, добраться пока не успели, да это ничего бы не дало – концы ее опять-таки вели к врагу, вот если бы взять Любань и окружить немцев в Чудове… И бесформенный мешок, каким представлялась освобожденная Второй Ударной земля, стал выбрасывать отросток на северо-восток, в сторону Любани.
Надо сказать, что никакой нарочитости в том, что противник слабее сопротивлялся в стороне от Октябрьской дороги, не было. Попросту немцы не держали там сплошной линии обороны и, захваченные врасплох, отдавали, конечно, не без боя, укрепленные пункты. В то же время, чем более расширяла армия боевые действия, тем больше увеличивалась линия ее фронта, создавая дополнительные трудности. Когда началось наступление 13 января 1942 года, перед Второй Ударной армией находился участок в 20–26 километров шириной. После прорыва обороны немцев линия фронта растянулась до двухсот… Конечно, армию тут же, едва наметился успех в ее наступлении, командование фронта принялось укреплять за счет соседей, но двести километров кольцевой передней линии – это не шутка, и тогда начались проколы в организации управления войсками.
Наступил февраль. В первый же день месяца на рассвете выдвинутые вперед разъезды 87-й кавалерийской дивизии ткнулись в укрепленный пункт Ручьи. За Ручьями лежал Апраксин Бор, потом Вороний Остров, а там уж рукой подать до Любани.
Но конники немного опоздали. Воздушная разведка противника засекла движение дивизии полковника Трантина, и немцы спешным порядком бросили сюда резервы, подтащили артиллерию и танки, лихорадочно спеша создать линию обороны; она должна была связать Кривино, Ручьи и Червинскую Луку.
Нужно было подавить ее артогнем. Но конники слишком вырвались вперед, артиллерия отстала, да и припасов для хорошего удара не было, увы… На внезапность атаки рассчитывать тоже не приходилось. Оставались решительность и дерзость. Иногда они помогали. Комэска Меныпенин любил, например, ударять по флангам. Он решил обойти деревню Ручьи с востока, увлекся, зашел к немцам в тыл и попал между молотом и наковальней. Позади у него гарнизон Ручьев, а впереди резервные батальоны, что шли на помощь немцам со стороны Любани. Деваться было некуда. И тогда Меньшенин развернул эскадрон и ударил по тем, кто, ничего не подозревая, шел на помощь ручьевскому гарнизону. Решив, что Ручьи захвачены русскими, гитлеровцы в панике метнулись обратно. Комэска снова развернул своих ребят на сто восемьдесят градусов и повел в наступление на укрепленный пункт, атаковал его с той стороны, откуда немцы ждали подкрепления…
Во второй день февраля на помощь конникам стали подходить стрелковые бригады – 53, 57, 59-я… За ними двигалась 191-я стрелковая дивизия полковника Старунина. На правый фланг этих соединений, к Сенной Керести, выходила 4-я гвардейская дивизия генерал-майора Андреева.
Через горловину Мясного Бора в прорыв втягивались все новые и новые части.
Генерал-лейтенант Клыков уже не раз и не два сетовал в разговоре с комфронта Мерецковым на возникшие сложности в управлении все разраставшейся Второй Ударной. Дивизии и бригады, говорил Николай Кузьмич, понесли с начала наступления огромные потери и пока не пополнены свежими силами. Как отдельным соединениям, им трудно ввиду обескровленности решать самостоятельные задачи, положенные им по штату. Обстановка меняется ежечасно, и сложность ее все нарастает. Штаб армии не в состоянии обеспечить надежную связь с возросшим числом соединений и все чаще теряет управление ими. Необходимо что-то предпринять.
Генерал армии Мерецков и сам понимал, что происходит. Но Кирилл Афанасьевич знал также, как не любят в Ставке ВГК разговоров об оперативных группах. Выждав несколько дней, командующий Волховским фронтом набрался духу и связался со Ставкой, в обоснование своего предложения о создании временных оперативных групп командующий ссылался на опыт Тихвинской операции. Тихвин в Ставке помнили, и это помогло пробить идею.
Парадоксальность ситуации состояла в том, что рождение оперативных групп было делом сугубо армейским, никаких тут особых разрешений сверху не требовалось. Группы создавались приказом по армии – прерогатива, так сказать, любого командарма. И от Мерецкова требовалось дать Клыкову рекомендацию на этот счет, ограничиться устным распоряжением. Но Кирилл Афанасьевич не забывал об имевшем место прецеденте.
Еще 10 января он говорил по прямому проводу с Верховным. «Хотим создать в Четвертой армии оперативную группу, товарищ Сталин…» – «Опять мудришь, товарищ Мерецков, не можешь угомониться и воевать спокойно, – с многозначительной интонацией проговорил Верховный. – Зачем дробить Четвертую на две армии? Зачем распылять свои силы? Четвертую надо сохранить как армию во главе с генералом Ивановым. Никакой опергруппы в составе Четвертой армии не нужно, необходима лишь ударная группа, которой должен руководить командарм…»
После такой отповеди Мерецков не решался снова выдвигать свои соображения по Второй Ударной, потом все-таки рискнул и был удивлен той легкостью, с которой Ставка пошла ему навстречу.
Были созданы три группировки, их возглавляли генералы Андреев, Коровников и Привалов. А когда 13-й кавкорпус Гусева и другие подразделения Второй Ударной вышли на линию Сенная Кересть, Ручьи и Червинская Лука, Мерецков понял, что у него появилась возможность разгромить немецкие войска, притянутые в район Чудово – Любани. Достаточно перерезать Октябрьскую железную дорогу северо-западнее станции Чудово – и немцы окажутся отрезанными от главных сил, лишатся путей подвоза боеприпасов и даже не смогут отойти к своим – некуда будет отходить.
Но генерал армии явственно ощущал, как все слабее становятся удары прорвавшихся подразделений. Да, он потребовал от генерала Клыкова уничтожить противника в районе Острова и Спасской Полисти, а зетем не позднее 6 февраля стянуть в район Сенной Керести и Ольховки 327, 374, 382 и 4-ю гвардейскую дивизии, чтобы объединенными усилиями ударить в сторону деревни Пятница, а затем по станции Бабино, которая отстояла от Чудова на 20 километров к Ленинграду. Гусевский корпус получил приказ выйти к Красной Горке, от нее и Любань недалеко…
Конники не подвели Мерецкова. Атакуя с ходу и ошарашивая противника неожиданностью появления, 26-я кавалерийская дивизия подполковника Трофимова на плечах преследуемых немцев захватила село Дубовик и к концу 6 февраля вышла к Большому и Малому Еглино. Конники нанесли удары по южному и северному флангам этих укрепленных пунктов, а сопровождающая их 9-я стрелковая бригада полковника Глазунова атаковала железнодорожную станцию Еглино с фронта.
Эти пункты удалось захватить лишь к утру 10 февраля. Немцы отошли к Верховью, Камерке и Глубочке, создав там такую линию обороны, перед которой эскадроны вынуждены были остановиться и слезть с коней. Время было упущено, стремительность порыва затухала. Чтобы продолжать операцию с тем же размахом и в том же темпе, необходимы были значительные резервы. Их не было. Спешившись, кавалеристы лишились главного преимущества – возможности вести подвижный и маневренный бой. Да и в конном строю они уже изрядно страдали от снежных заносов, досаждала оторванность от тылов – они находились от них за добрую сотню километров, не хватало боеприпасов, продуктов, а главное – фуража. Солдат из топора суп сварит, а вот лошади эрзац предложить нельзя… Давила конников и немецкая авиация, бомбила их боевые порядки, хорошо различимые сверху.
А Мерецков все расширял и расширял кольцевую линию переднего края Второй Ударной. Он по-прежнему верил в обещания Ставки о скором прибытии резервной общевойсковой армии. Кирилл Афанасьевич все поставил на эту карту, но ему не сдали ее из колоды.
Резервной армии Мерецков не дождался. Она не прибыла на Волховский фронт. Не потому, что Ставка не хотела помочь волховчанам. У Ставки попросту не было ее, резервной армии.
28
По-немецки Псков назывался теперь Плескау.
Во всей огромной округе, куда вошла и Псковская земля, захватчики едва ли не всюду сменили названия, и сама эта область была сейчас Ингерманландией, не больше и не меньше. Впрочем, название это не было для Псковщины новым. Еще в 1708 году древний город был приписан к Ингерманландской губернии, образованной Петром Первым. Но в нынешнем ее переименовании заключен был иной, зловещий смысл.
Вальтер Гиллебранд уже несколько дней жил в Плескау, сразу по возвращении приступив к своим обязанностям эксперта-искусствоведа. Разумеется, никто из его коллег по спецкоманде, рыскающих повсюду в поисках художественных ценностей и антиквариата, не подозревал, где находился штурмбаннфюрер все эти недели. Считалось, что Вальтера Гиллебранда отзывали в фатерлянд, где таким, как он, специалистам хватало работы для разбора и оприходования европейских коллекций, награбленных не очень-то понимающими в искусстве эсэсовцами.
Сегодня Шварц первую половину дня провел в Псковском Кремле, где просматривал старинные книги, изъятые гитлеровцами из окрестных храмов и монастырей. Книги были довольно ценные, но из ряда вон выходящих «трофеев» Вальтер не обнаружил. Придется санкционировать отправку всего этого в рейх. В особых ситуациях, когда изъятие угрожало предмету исключительной ценности, Гиллебранду было разрешено Центром принимать меры для спасения национальной реликвии, но сейчас это был не тот случай.
До обеда у Вальтера оставалось немного времени, и он решил размяться после утомительной и малоподвижной работы, побродить по Кремлю. Вальтеру, знавшему бесчисленное множество городских крепостей, особенно по душе был Псковский Кремль, или, как его еще называли, Детинец, поднявшийся на высоком берегу реки Великой.
