Патриаршие пруды. Переулками до Чистых прудов
Tekst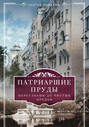


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 230 str. 63 ilustracje
- Kategoria: architektura, historia Rosji, kulturoznawstwo

Вспольный переулок
Сломали церковь в 1932–1933 гг. и выстроили на ее месте Дом радиовещания и звукозаписи (проект А. Н. Земского и А. Г. Туркенидзе).
На левом углу Вспольного переулка – особняк (№ 1), построенный в 1884 г. для московского городского головы С. А. Тарасова по проекту В. Н. Карнеева. Последним владельцем перед революцией был инженер А. Н. Бакакин. В 1911 г. архитектор А. Э. Эрихсон пристраивает к особняку двухэтажный объем по Вспольному переулку с суховатым сдержанным декором фасада.
Этот особняк пользовался самой мрачной славой в Москве – в нем поселился Лаврентий Берия, правая рука Сталина, повинный в истреблении сотен тысяч людей. Рассказывали страшные истории об этом особняке…
Ныне его занимает посольство Туниса.
По переулку за этим особняком в начале XIX в. находилась большая усадьба княгини М. И. Оболенской, позднее разделившаяся на три участка. На первом из них (№ 3) сохранились два дома, построенные в 1817 г. Двухэтажный домик № 9 по линии переулка построен в 1873 г. – в нем на первом этаже в 1900–1902 гг. была квартира В. И. Немировича-Данченко. Здесь же в 1900-х гг. жил патриарх русской земледельческой науки И. А. Стебут. Здание в глубине этого же участка построено в 1913 г. известным архитектором Ф. О. Шехтелем для Ираиды Миндовской, дочери Ивана Александровича и жены его двоюродного брата Петра Галактионовича Миндовских, текстильных магнатов из Кинешемского уезда. По этому адресу в 1919 г. располагался Верховный революционный трибунал при ВЦИКе, и здесь в 1920-х гг. жил советский государственный деятель Н. В. Крыленко, который недолгое время был Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам, потом перешел на юридическое поприще – выступал обвинителем во многих сфальсифицированных процессах, был наркомом юстиции и сам пал жертвой того режима, который он так ревностно защищал.

Церковь Георгия на Всполье
Дом № 13 построен в 1864 г. купцом второй гильдии В. П. Быковым и через три года надстроен. В нем в 1900–1913 гг. помещалась редакция журнала «Вопросы философии и психологии», который был призван, по идее его основателя Н. А. Грота, «насаждать философскую культуру среди русского общества и способствовать тем самым делу создания самостоятельной русской философии». Редакторами его были С. Н. Трубецкой и Л. М. Лопатин.
В переулке за жилыми домами № 17 (1911 г., архитектор Н. Г. Лазарев) и № 19 (1912 г., архитектор С. Я. Яковлев; оба этих участка в середине XIX в. принадлежали дочери знаменитого артиста Павла Мочалова Е. П. Мочаловой) стоит любопытное здание (№ 21), выстроенное к 1857 г. Это отголоски московского ампира с его центричностью композиции и колонным портиком, но чувство пропорции уже утеряно, – вглядитесь в преувеличенно высокие полуколонны с пышными композитными капителями, в тяжелый карниз, плоские пятна огромных барельефов. Здание справа было выстроено в 1902 г. архитектором Ф. Поповым.
В несохранившихся домах в этом переулке жили известный искусствовед и переводчик А. М. Эфрос – интересны его творческие портреты артистов, художников, писателей (№ 7), популярная артистка М. Ф. Андреева, у которой в 1905 г. скрывался Н. Э. Бауман (№ 16), знаменитый геохимик и минералог В. И. Вернадский (№ 17).
В школьном дворе (№ 16) в 1965 г. открыт памятник Наташе Качуевской, ушедшей добровольно на фронт и погибшей в неравном бою с фашистами 20 ноября 1942 г. (скульптор Л. Л. Островская).
В доме № 14 проходили последние собрания литературного кружка «Никитинские субботники», основанные писательницей Е. Ф. Никитиной в 1922 г., на которых бывали многие известные писатели, литературоведы, художники, актеры, и среди них Антокольский, Вересаев, Гудзий, Инбер, Леонов, Новиков-Прибой, Сельвинский, Сейфуллина, Телешов, Федин и др. Она основала кооперативное издательство под тем же названием, которое выпускало художественную литературу и книги по литературоведению. В 1931 г. издательство, как и многие другие возникшие в период НЭПа, перестало существовать, слившись с издательством «Федерация», но кружок продолжал работать, умело лавируя между лояльностью советскому режиму и относительной независимостью. Он собирался на квартире Никитиной сначала в Газетном переулке (№ 3), потом на Тверском бульваре (№ 24) и, наконец, в Вспольном переулке, в доме № 14 на первом этаже. В 1957 г. Никитина передала свой богатый архив государству: в нем насчитывалось около 160 тысяч документов по литературе и искусству, 16 тысяч портретов, шаржей и карикатур и 2 тысячи фотоснимков, а в 1962 г. в последней ее квартире открылся филиал Литературного музея, но после кончины основательницы в 1973 г. проработал он недолго.
Старый двухэтажный дом № 14 в советское время надстроили сначала на три этажа, потом еще на два, и уже в недавнее время один из будущих жильцов, получив разрешение надстроить небольшую мансарду, нахлобучил на многострадальный дом целый этаж, «украсив» его какими-то башенками, иллюминаторами и прочими «излишествами», отчего чуть было вообще весь дом не разрушился – пришлось срочно укреплять фундамент.
Название Спиридоньевского переулка, как и соседней улицы, было дано по стоявшей на углу с улицей Спиридоновка церкви Св. Спиридона, построенной в 1633–1639 гг. патриархом Филаретом в его патриаршей слободе «на Козьем болоте». Посвящение придела святому Спиридону (главный престол в этой церкви – Рождества Богородицы) объяснялось тем, что святой был в юности пастухом, а в слободе, надо думать, разводили коз и иную домашнюю живность. Церковь, как обычно бывало с увеличением прихода, стали переделывать и в 1821 г. пристроили большую трапезную и красивую колокольню. Все было сломано в 1930 г., и на этом месте трест «Теплобетон» выстроил в 1932–1934 гг. жилой дом (№ 1/24) с барельефами, представляющими Технику, Искусство и Науку. В нем жили палеонтолог А. А. Борисяк, зоолог С. А. Зернов, физик Б. М. Вул и другие известные ученые.

Церковь Св. Спиридона на Козьем болоте
Напротив протянулся по переулку почти на 100 метров жилой дом (№ 2/22) Наркомата путей сообщения, выстроенный в 1933–1936 гг. (архитекторы Г. И. Волошинов и Л. М. Поляков). К Спиридоновке выходит высокая башня, предназначенная для установки резервуара с водой. В доме в 1948–1962 гг. жила популярная певица К. И. Шульженко.
По левой стороне Спиридоньевского переулка находится небольшое здание с мезонином, появившееся здесь в 1822 г. Далее пример интересного решения использования старых зданий – включение старого двухэтажного строения в новый жилой гостиничный комплекс (№ 9), созданный архитектором Л. Д. Зориным для партийной элиты: тут была гостиница московского комитета коммунистов. Старое здание, выделенное цветом, также предназначенное для гостиницы, было построено архитектором Вильямом Валькотом в 1903–1904 гг. для «Дома святого Андрея» – общежития английских и американских гувернанток, которых было немало в состоятельных московских семьях. Приобретение земельного участка и строительство велось на средства Джейн Мак-Гилл, самой состоятельной дамы из московской британской колонии, жены владельца чугунолитейного завода. Каждой жительнице дома предоставлялись две комнаты, им бесплатно давали горячую воду, но вот за самовары надо было платить. Заводить кошек и собак строго запрещалось, и посетители должны были покидать дом до 11 часов вечера.
Хорошо, что партийные деятели, входя в гостиницу, не обращали внимания на то, что у них над головой, а то помещенные архитектором над главным входом гербы Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии могли бы и исчезнуть. Теперь же только они свидетельствуют об интернациональных постояльцах гостиницы, в названии которой по необъяснимой прихоти соединились два ничем не связанные понятия: «Марко Поло Пресня». В 1920—1940-х гг. тут помещалось студенческое общежитие 1-го Московского университета.

«Дом святого Андрея», Спиридоньевский переулок
В небольшом несохранившемся доме (№ 11) с 1920-х гг. до кончины в 1942 г. жил историк Москвы М. И. Александровский, автор ценных указателей по московским церквам и других трудов, многие из которых, к сожалению, остались неопубликованными.
Уже на углу с Малой Бронной улицей находится один из жилых домов (№ 13/21) известного архитектора М. Я. Гинзбурга, построенный в 1927 г. Как писал в то время журнал «Строительство Москвы», «это первый и, без сомнения, удачный опыт постройки в новом стиле – так называемом конструктивном». В доме, выстроенном Народным комиссариатом финансов, была и квартира самого комиссара – Н. П. Брюханова, расстрелянного в 1938 г.; тут же квартировал предыдущий нарком – Н. А. Милютин, умерший своей смертью на год раньше Брюханова. Здесь была и квартира (№ 25) писателя С. М. Третьякова, также репрессированного заодно с создателями коммунистического государства – его и арестовали в этом доме.
На доме напротив (№ 8, 1939 г., архитектор П. А. Голосов) – мемориальная доска с надписью: «В этом доме жил и умер народный артист СССР, лауреат Государственной премии Пров Михайлович Садовский». Здесь же жили артисты Е. М. Шатрова, В. О. Массалитинова, М. И. Царев и др.
Спиридоньевский переулок продолжается и за Малой Бронной, где он сжимается двумя рядами высоких доходных домов (№ 10, 12, 15, 17). В строении, находящемся во дворе дома № 12, в 1906–1908 гг. жила семья Маяковских, уехавшая из Грузии после безвременной и неожиданной смерти отца, заразившегося от укола пальца булавкой. Сестра В. В. Маяковского вспоминала: «Мы сняли квартиру с центральным отоплением (больше всего боялись замерзнуть)… Это был обычный дом-коробка, во дворе, удобный для эксплуатации. Двор разделялся на ряд узких коридоров, покрытых асфальтом». Возможно, что впечатление от жизни в этих ущельях домов отразилось в стихотворении В. В. Маяковского «Я»:
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшую мякоть…
Жили Маяковские трудно: сняли три комнаты, чтобы одну сдавать жильцам, подрабатывали, выжигая и раскрашивая деревянные яйца для кондитерских магазинов.
В доме № 17 были квартиры драматурга А. А. Крона и композитора А. А. Крейна.
Севернее Спиридоньевского переулка, рядом с урочищем Козье болото, в XVII в. находилась Патриаршая слобода. Места тут, видно, были так топки и грязны, что в московском фольклоре осталась прибаутка: «Фома поспешил, да людей насмешил: увяз на Патриарших». Водоем был вычищен в конце XVII в. и, возможно, с тех пор и получил название Патриарший пруд, но только в 1832 г. эта местность приобрела более или менее цивилизованный характер: как сообщалось в отчете московского полицмейстера, «вместо болота, существовавшего на месте, называемом Патриаршие пруды, теперь виден чистый пруд, об саженный деревьями и обведенный дорожками». Правда, полицмейстер, надо думать, несколько преувеличил беды пруда, ибо еще за десять лет до того тут стоял «кофейный дом для продажи чая, кофе и лимонада, окромя всякого рода напитков» при «вольных банях» купца Григория Зарубина. В конце XIX в. на Патриаршем пруду Русское гимнастическое общество устраивало каток, на котором проводились состязания конькобежцев. На этом катке «русское чудо», как звали его за границей, Николай Струнников в 1912 г. установил рекорд России на дистанции 500 метров, продержавшийся 13 лет.
Патриарший пруд неоднократно упоминается в художественной литературе. Так, Л. Н. Толстой в рассказе «Святочная ночь» описывает поездку к цыганам:
«Вдруг сани остановились… Налево от него виднелось довольно большое для города пустое, занесенное снегом место и несколько голых деревьев…
– Что, мы за городом? – спросил он у кучера.
– Никак нет, евто Патриарши пруды, коли изволите знать, что подле Козихи».
Г. П. Данилевский в романе «Сожженная Москва» поселяет здесь княгиню Шелешпанскую, а наш современник М. А. Булгаков начинает роман «Мастер и Маргарита» именно в этих местах: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».

Спиридоньевский переулок. Вид от Спиридоновки. 1913 г.
В 1986 г. у пруда выстроили изящный павильон (архитекторы Б. Палуй и др.), в котором были использованы лепнина, рельефы и модульоны старого павильона, поставленного здесь еще в 1938 г. Летом на пруду плавают черные лебеди, а зимой устраивается каток. Сейчас около бывшего Патриаршего пруда уютный сквер, где стоит один из оригинальных московских памятников, к сожалению несколько громоздкий для небольшого сквера. Это статуя баснописца И. А. Крылова в сопровождении 12 героев его знаменитых басен. Памятник – работа скульпторов А. А. Древина и Д. Ю. Митлянского и архитектора А. Г. Чалтыкьяна – был открыт 17 сентября 1976 г.
В 2003 г. на Патриаршем пруду предполагалось поставить нечто странное, посвященное писателю М. А. Булгакову. Там должна была быть толпа фигур-персонажей романа «Мастер и Маргарита»: кота Бегемота, Азазелло, Коровьева, Понтия Пилата с собакой, Мастера с Маргаритой, Иешуа, бредущего по воде, и самого автора, угнездившегося на сломанной скамейке. Кроме всего этого намечалось возведение огромного, высотой 12 метров, бронзового примуса, который предполагался быть не просто примусом, а по совместительству еще и фонтаном.
Весь этот бред скульптора А. Рукавишникова вместе с архитекторами А. Кузьминым и С. Шаровым прошел конкурс (!), все стадии согласования, поддержан московскими властями, и уже было начато строительство, но вмешались москвичи, не потерявшие здравого смысла. Несколько месяцев продолжалось противостояние: жители писали письма, выходили на ночные дежурства, отрывали себя от работы, от семей, трепали себе нервы, но все-таки выдержали осадное положение.
А сколько безобразных фигур понаставлено в разных местах Москвы! Тут и огромный монстр Петр, больной Достоевский, Шолохов в стаде обезумевших лошадей в лодке на мели, чудовища-пороки, окружившие детей…
С южной стороны пруда проходит Большой Патриарший переулок, переименованный дважды: в 1924 г. он стал называться Большим Пионерским, а с 1964 г. – улицей Адама Мицкевича. Польский поэт никак не был связан с московским переулком, и это название было дано только потому, что на углу со Спиридоновкой тогда находилось польское посольство. Оно занимало одно из заметных зданий старой Москвы, большой дом, выстроенный И. В. Жолтовским в 1910 г. для главы торговой фирмы Гавриила Тарасова, о чем повествует надпись над первым этажом по-латыни: «Gabrielus Tarassof fecit anno Domini MCMX».
Архитектор, не очень обременяя себя, скопировал, несколько изменив пропорции, один из итальянских палаццо и перенес его на московскую улицу, за что и подвергался нелицеприятной критике. «Он [дом] не вязался ни с московским духом, ни с московским снегом, ни с милой соседской церковью. Серый, мрачный, холодный и угрюмый, из неподходящего для Москвы материала „под гранит”, он казался чужеземным гостем, которому не по себе в чужом городе», – писал современник. В интерьерах особняка – росписи И. И. Нивинского и Е. Е. Лансере.
В этом здании после переезда советского правительства из Петрограда находился Комиссариат по иностранным делам, потом администрация американской помощи (АРА. American Relief Administration, ARA). История ее очень интересна и поучительна.
После Первой мировой войны, бедствий революции, Гражданской войны, конфискаций на страну обрушился невиданный голод – в 1921 г. голодало не менее 20 процентов населения страны, страдали миллионы и миллионы, и на огромных просторах страны процветало людоедство.
Причиной этому была не только засуха, но и преступная политика большевиков, отобравших у крестьян все, что у них было, и в том числе даже семенной хлеб.
Ограбившие собственный народ правители, сидевшие в Кремле, почувствовали, что под ними шатаются кресла – надо было срочно что-то делать. Для них вполне естественным было решать все вопросы винтовкой солдата и наганом чекиста, но в этом случае на это нечего было надеяться, и после долгих колебаний Ленин согласился на создание общественного комитета помощи голодающим, который мог убедить Запад, что помощь нужна народу, а не большевикам (и как только большевики убедились, что им помогут, они немедленно арестовали общественников).
На помощь пришли «империалисты»: в августе 1921 г. было заключено соглашение с благотворительной организацией Соединенных Штатов – АРА.
Деловые американцы жестко и точно поставили деятельность благотворительной организации в России под свой контроль, и, несмотря на препоны (большевиками даже приказ был выпущен – «О порядке ареста сотрудников АРА»), уже в мае следующего года они кормили более 6 миллионов человек, а во время максимального развития гуманитарной деятельности – около 10 миллионов. Детям раздали 119 миллионов порций, а взрослые получили около 800 миллионов порций. Но АРА не только кормила, она еще одевала и лечила русских людей, а также снабжала крестьян сельскохозяйственным инвентарем и сортовыми семенами.
Коммунистические власти, стиснув зубы, удерживались от преследований американцев, вместо всемерной помощи окружали их слежкой, арестовывали и расстреливали русских сотрудников, составляли выдуманные отчеты о так называемой «шпионской» деятельности и с трудом дождались окончания американской помощи. Как писали известные историки Геллер и Некрич в книге «Утопия у власти», тогда выработалась модель поведения властей по отношению к тем, кто приходил им на помощь: 1) идти на уступки, если нет иного выхода, 2) отказываться от уступок, едва необходимость миновала, и 3) месть.
В здании, где помещался центральный офис АРА, впоследствии долгое время находился Верховный суд СССР, а теперь его занимает академический институт Африки.
На этом месте в середине XIX в. находился собственный дом известного в Москве медика, профессора Ф. И. Иноземцева, где прошли его последние годы. Родился он недалеко от Москвы, в селе Белкине, принадлежавшем Бутурлиным, и один из них вывез его отца с Кавказа, воспитал и определил чиновником, дав ему имя Иван и фамилию Иноземцев. Сын его Федор страстно хотел быть медиком, он поступил в Харьковский университет, был послан в Дерпт для совершенствования и потом за границу. В России стал профессором Московского университета по кафедре хирургии. «Как сейчас вижу это умное подвижное лицо, – вспоминал его ученик, – эти горящие глаза, слышу это живое, блестящее, серьезное изложение, в котором слышалась искренность, чувствовалось увлечение. Лекции эти захватывали слушателей и водворяли среди них такую тишину, какой не всегда можно достигнуть внешними мерами». Его учениками были такие выдающиеся медики, как Бабухин, Сеченов, Склифосовский, Боткин. Он основал хирургическую клинику, первый в России применил наркоз, основал «Московскую медицинскую газету» и Общество русских врачей.

Федор Иванович Иноземцев
В Большом Патриаршем переулке нет примечательных архитектурных памятников, а самый старый дом – небольшое двухэтажное строение (№ 6), на котором еще недавно была видна лишь одна деталь его некогда богатого убранства – пилястр с левой стороны (теперь его фасад переделан, и довольно-таки неудачно). В этом доме в 1889–1891 гг. жила артистка Малого театра Г. Н. Федотова, а в конце 1920-1930-х гг. Ю. К. Ефремов, географ, писатель, поэт и путешественник, автор книги «Московских улиц имена».
В доме № 4 в 1930-х гг. была квартира артиста Э. П. Гарина, а в несохранившемся строении на месте дома № 12 в 1851 г. жил физиолог И. М. Сеченов.

Николай Николаевич Поликарпов
Высокие дома по Малому Патриаршему переулку обрамляют юго-западную сторону пруда. Из них следует отметить дом № 5 с оригинальными балконными нишами, украшенными росписями (1930-е гг., архитектор В. Н. Владимиров). В нем была последняя квартира авиаконструктора Н. Н. Поликарпова (1892–1944), которому посвящена мемориальная доска. Его удивительная судьба служит примером того, как в Советском Союзе не щадили человеческую жизнь и выжимали из людей все, что было необходимо правителям. Он еще в молодости полюбил авиацию и стал работать на авиационном заводе. Талантливый инженер-самородок уже в 1923 г. создает первый советский истребитель и еще несколько успешных моделей, но в 1929 г. его арестовывают, обвиняют в участии в «контрреволюционной вредительской организации» и приговаривают к смертной казни. Два месяца он ждет смерти, но его отправляют в «шарашку», тюремное конструкторское бюро, где он разрабатывает исключительно успешный самолет И-5, находившийся в продолжение 9 лет на вооружении. После показа этого самолета Сталину его освобождают (но приговор отменяют только через 12 лет после его смерти!), и он работает над целой серией истребителей. Скончался он еще не старым – сказались долголетние издевательства. После кончины Поликарпова конструкторское бюро возглавил специалист в области ракетной техники В. Н. Челомей, который тоже жил в этом доме. Тут жил ученик и племянник Н. Е. Жуковского, конструктор авиационных двигателей А. А. Микулин, пропагандировавший на склоне лет (он умер в 90 лет) систему оздоровления: он написал книгу «Активное долголетие (моя система борьбы со старостью)». В 1938–1941 гг. здесь жили любимец Сталина конструктор А. С. Яковлев (1906–1989), автор самолетов Як, и еще один известный авиаконструктор С. В. Ильюшин.
Ранее, до возведения современного, тут стоял небольшой домик, где жила пианистка Е. А. Бекман-Щербина. Ее муж – автор самой известной новогодней детской песенки «В лесу родилась елочка…», написанной для дочери на слова Р. А. Кудашевой. В 1905 г. Бекман-Щербина записала музыку, так как автор «был на тот счет неграмотным», и песенка обрела бессмертие. Автор текста до 1941 г. не знала о том, что ее слова положены на музыку, да еще на такую известную.
Ермолаевский переулок начинается от старинной усадьбы (№ 1), главный трехэтажный дом которой расположен во дворе торцом к линии улицы. Он был построен здесь, возможно, еще в XVIII в. В 1820-1830-х гг. усадьба принадлежала князю А. М. Урусову, у которого в 1827 г. часто бывал А. С. Пушкин.
После освобождения из михайловской ссылки Пушкин окунулся в водоворот развлечений московского общества, которых он был так долго лишен, – балы, вечера, театральные представления, прогулки следовали одни за другими. По воспоминаниям, «в конце двадцатых годов в Москве славился радушием и гостеприимством дом князя Александра Михайловича и княгини Екатерины Павловны Урусовых. Хозяйка, урожденная Татищева, родная сестра знаменитого русского посла сначала в Мадриде, а потом в Вене, Дмитрия Павловича Татищева, была женщина весьма образованная, прекрасно знала иностранные языки и в особенности английский… Но не одно радушие и образованность хозяев влекли в этот дом тогдашнюю молодежь – и туземную, и приезжую… Нельзя сказать, чтобы князь Урусов делал большие и парадные приемы гостей или вообще устраивал роскошные званые вечера, тем не менее почти каждый день собирался у него тесный кружок друзей и знакомых, преимущественно молодых людей». Пушкин с удовольствием бывал здесь, и немалую роль в его посещениях имело то обстоятельство, что у Урусовых были хорошенькие дочери, которые считались украшением московского общества, и, конечно, Пушкин никак не мог пройти мимо такого «цветника». Один из молодых людей приревновал Пушкина, бывшего центром собиравшегося общества, и вызвал его на дуэль, которую удалось предотвратить с помощью пушкинского друга Соболевского.
