У каждого свой Эверест. Как опыт реальных восхождений помогает вдохновлять команды и управлять проектами
Tekst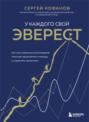


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 320 str. 42 ilustracje
- Kategoria: efektywność osobista, motywacja, samokształcenie, rozwój osobisty
Зачем люди идут в горы
Когда моя мечта подняться на Эверест осуществилась, я понял, что могу быть проводником в горы для многих людей в качестве горного гида, который помогает претворить их мечту о восхождениях в реальность. И при этом мне было важно «найти ключик», который поможет человеку перейти от фантазии к реальным горным маршрутам: подобрать снаряжение, разработать программу тренировок и «дорожную карту» к амбициозной цели.
На этом пути мне удалось познакомиться с разными людьми. Они стремились в горы по различным причинам.
Были опытные путешественники, которые четко понимали, зачем они восходят на Килиманджаро или Эльбрус, и были впервые пришедшие в альпинизм новички, которыми двигало желание попробовать новое по совету друзей.
Мне встречались те, кто влюблялся в горные пейзажи и оставался с горами надолго, и те, кто обнаруживал у себя горную болезнь или нежелание приобрести необходимую физическую подготовку, и оставлял альпинизм.
Своим примером я старался объяснить, что через эти сложности можно переступить и не бросать движение к мечте. На это мне отвечали: «Да, у тебя получилось, но я другой человек». Думаю, подлинная разница была в том, что меня двигала и мотивировала мечта: найти время на дополнительную тренировку, приобрести новые навыки, выкрутиться из сложной ситуации… И ради достижения этой цели я находил деньги и время на очередной выезд в горы, на тренировки и снаряжение.
А моих оппонентов увлекали другие мечты, не связанные с любовью к горам. Они ставили галочку напротив выполненного пункта в жизненном списке и переносили свою энергию в другое русло.
Знакомился я и с такими же путешественниками, как я, которые любили горы и стремились открыть их для себя. Они тренировались, копили средства на поездку и ждали отпуска. Они точно так же сталкивались со слабостью или болью, но желание пойти в горы и подняться на новую вершину перекрывало эти трудности. С такими путешественниками я делился своими секретами и помогал им открыть потрясающую красоту гор и увидеть уникальные виды, доступные только с вершин.
В моей работе встречались и путешественники, которых я называю «достигаторы». Они стремятся стать первыми на вершине. Конечно, не первым ее покорителем, но первым по какому-нибудь другому признаку, чтобы вписать свое имя в историю страны.
Достигаторы не любят ждать, они хотят совершить все сразу: завтра же надеть ботинки и отправиться в горы. Но когда начинаются тренировки и простые восхождения, их любовь к горам гаснет, и они переключают внимание на следующий объект для достижений.
Хотя были и успешные примеры таких достижений среди моих подопечных, но также среди них были и те, для кого важно другое: погрузиться в мир гор, а не стать кем-то первым и получить упоминание своего имени в новостях.
Итак, мечта сбылась – что дальше?
Приятный и важный момент – когда мечты исполняются. В альпинизме говорят: когда одна вершина достигнута, пришло время отправляться за новой. Точно так же можно сказать и о мечте: когда исполнилась одна, ищите следующую.
Сначала я хотел подняться на самые высокие вершины в Уральских горах, затем – подняться на Эльбрус и множество других вершин на пути к своему Эвересту. И, наверное, можно было бы успокоиться, когда все это произошло, ведь цель достигнута. Однако я устроен так, что сразу начинаю думать о новой мечте.
В бизнесе, как в альпинизме: компания, достигающая определенной вершины и оставшаяся спокойно восседать на ней, очень скоро рискует быть сброшенной с нее конкурентами. Примеры хорошо известны. Но если эта компания поставит перед собой новую задачу и наметит следующую вершину, путь ее окажется куда длиннее и интереснее.
Начиная подъем, альпинисты думают только об этом восхождении, не видят других вершин, которые их окружают. Лишь поднявшись и окинув взором горизонт, человек приходит к пониманию, что помимо покоренной высоты есть много других. И свой опыт можно перенести на новые вершины, мечты или цели.
Успешные компании и успешные альпинисты отличаются от других именно тем, что, достигнув своей мечты, они сразу начинают думать о чем-то новом.
Вот и в моем случае, после того как я вместе с Валерой Бабановым получил высшие альпинистские награды – «Золотой Крюк» и «Золотую Чашу» – стал одним из самых высокооплачиваемых горных гидов в мире, поднялся на высочайшие вершины всех континентов несколько раз, я задумался: а что же дальше? И следующим этапом стал переход из альпинизма в бизнес. Начинать пришлось так же с самых нижних позиций, но я уже понимал, как добираться до вершин.
Как найти место новой мечте?
Мой проект Mountain Planet, миссией которого я вижу «сделать горы ближе и безопаснее», был мечтой сделать горы доступнее для широкого круга людей, используя не только свои знания в альпинизме, но и инструменты бизнеса.
Есть одно замечательное упражнение, которое помогает найти в себе ресурсы. Для этого я прошу своих друзей, знающих мои стремления и особенности, рассказать мне обо мне. Обычно вы думаете, что друзья хорошо вас изучили и их мнение совпадет с вашим собственным взглядом. На деле оказывается, что они верят в вас гораздо больше, чем вы сами, видят ваши сильные стороны и восхищаются умениями. Важно попросить их произнести это вслух. Несколько таких разговоров в позитивном ключе с друзьями дадут вам необходимую энергию делать то, на что вы, возможно, боялись замахнуться.
Это упражнение подходит не только для людей, но и для крупных компаний. Один раз я использовал эту технику во время модерации стратегической сессии для крупной телекоммуникационной компании – мы упражнялись в фантазировании. Не просто представляли себе видение компании в будущем, а воображали себя инопланетянами, которые могут все. Это позволило думать вне границ и нестандартными траекториями, но на знакомую тему – о связи. Таким упражнением на смену ролей можно набросать много-много фантазий о желаемом будущем.
Следующий шаг – это просмотр успешных кейсов, которые были в других, не смежных с вашей, отраслях деятельности. Увидеть и проанализировать удачные шаги других компаний, провести аналогию со своей и перенести опыт в свой бизнес. Это помогает подумать о том, что можно было бы сделать еще, пофантазировать и перенять нереальные на первый взгляд вещи, которые чуть позже становятся мечтами компании.
Важно запросить и получить обратную связь от людей, которые используют результаты вашего бизнеса. Например, во время той стратегической сессии я рассказал о своей необходимости как альпиниста, путешествующего по миру, иметь устойчивую спутниковую связь по всей планете, не задумываясь о выборе оператора. Это желание со стороны клиента позволило компании подумать о создании маркетплейса спутниковой связи, объединяющего разные системы – Inmarsat, Iridium, Thuraya, Global Star и другие – на одной интернет-площадке.
Именно фантазии и желания клиентов порой открывают бизнесу возможности для новых мечтаний. Причем эти клиенты могут быть совсем не типичные, а их потребности – выпадающими из привычного фокуса компании.
Советом к поиску фантазий также может быть призыв «снова стать ребенком», чтобы вспомнить свои детские мечтания, вернуться к свободе мыслей, не обремененных положением взрослого в обществе.
В детстве мы не боимся фантазировать, нас ничто не останавливает, нет барьеров, границ и страха. И если окунуться в то далекое время, полистать в голове все смелые желания – вдруг окажется, что одна из этих фантазий сейчас может лечь на твою дорожную карту.
И не просто лечь, а стать мечтой, которая подстегнет вас к действиям, даст энергию и внесет краски в повседневную жизнь.
И если с мечтами путешествовать, подняться на Эверест и сделать горы ближе и безопаснее для людей я справился, то о чем же я мечтаю сейчас? У меня есть фантазия о том, чтобы подняться и на высочайшую вершину нашей Солнечной системы – гору Олимп на Марсе высотой 26 километров.
Пока это лишь фантазия, но Илон Маск в ближайшем будущем уже готовит экспедицию на Марс, а у меня есть глобальный проект Mountain Planet и мечта подняться на Олимп. Кто знает, может быть, в моей гостиной и появится фото с высочайшей вершины Марса, а проект будет называться Mountain Planets («Горные планеты») – в помощь горным туристам обеих планет. Правда, для этого мне нужно готовиться в космонавты.
Глава 4. Первое прикосновение
В альпинизм – по ошибке
Если вы считаете, что только сумасшедший родитель отдаст своего ребенка в такой опасный вид спорта, как альпинизм, то я с вами буду абсолютно солидарен.
Мои родители – оба в прошлом инструкторы по спелеологии – как никто другой понимали всю опасность экстремальных увлечений и точно знали, в какие спортивные секции не стоит отдавать их сына, чтобы он оставался здоровым и жил долго и счастливо.
Поэтому с детства я перепробовал десятки различных видов спорта: занимался плаванием, легкой атлетикой, акробатикой, фехтованием, теннисом и так далее, но всегда это был спорт в закрытом помещении. Без выездов, а значит, и без рисков.
Тем не менее я с четырех лет был приобщен к палаткам, поездкам на скалы, сплавам на байдарках, бардовским песням и походно-туристской культуре. И какой-нибудь вид спорта всегда присутствовал в моей жизни.
Подготовительные курсы, которые я посещал в 1994–1995 годах, чтобы поступить в вуз, оградили меня от спорта на полтора года. Затем я поступил, первые полгода отучился и ощутил, что у меня внутри нарастает какая-то пустота: чего-то не хватает. Понял, что не хватает спорта, и стал думать о том, куда бы податься.
В тот момент в моем родном Екатеринбурге проходил чемпионат мира по скалолазанию. Его показывали по телевизору, моя мама посмотрела, как это выглядит – все лазают в зале, в шортиках, красивые девочки вокруг ходят, – и ей показалось, что это безопасно. Она сказала мне: «Слушай, кажется, это интересный вид спорта. Пойди попробуй». И я решил: «Ладно, пойду попробую».
Однако, когда я пришел записываться в секцию скалолазания, тренер честно сказал, что он тренирует не скалолазов, а альпинистов. На тот момент для меня не было разницы: люди лазают по тренажеру – все как в телевизоре. Я просто не понимал, в чем разница между альпинизмом и скалолазанием. В результате я записался по ошибке в секцию альпинизма. Когда я рассказал об этом маме, она была, конечно, очень расстроена.
Родители оберегали меня от опасностей экстремальных видов спорта и сами же нечаянно подтолкнули к ним, и я в конце концов стал альпинистом.
Моим первым тренером стал мастер спорта международного класса по альпинизму Александр Колесов. Он тренировал меня, но выехал со мной в горы лишь один раз, когда я закрывал третий, самый начальный, спортивный разряд. Однако он настолько правильно задал темп моего развития, что я по-прежнему считаю его своим единственным тренером.
Альпинизм раскрылся для меня спустя полгода. Первые тренировки в зале и на скалодроме были посвящены скалолазанию, и у меня получалось неплохо – сборная Свердловской области даже рассматривала меня как кандидата в команду. И здесь свою роль сыграл запас освоенных мною в детстве спортивных навыков: я был хорошо готов к любым видам физической активности. Ведь очень часто к победам приводит не только чемпионский дух, но и фундаментальная подготовка.
Дух чемпиона проявляется во всем – в руководстве проектами, в бизнесе или в личных целях. У американцев есть хорошая пословица: «Никогда не недооценивай сердце чемпиона». В русском языке есть такие слова: «Не бывает бывших чемпионов». В этом мне еще предстояло убедиться в будущем, когда мой опыт быстрого реагирования в критических ситуациях пригодился, чтобы спасти проект Mountain Planet. Об этом вы сможете прочесть дальше. А с первым серьезным вызовом в альпинизме я столкнулся на высоте в пять тысяч метров.
Потолок в 4 000 метров
Если поискать информацию обо мне в интернете, в книгах и журналах, посмотреть на описания моих достижений, то может сложиться ощущение, что я какой-то сверхчеловек или супермен, который до завтрака для разминки поднимается на Монблан, в обед, не напрягаясь – на Эльбрус, а вечером у него еще остается время на то, чтобы спасти терпящих бедствие альпинистов где-нибудь в Гималаях.
Но я вам открою небольшой секрет: на самом деле это не совсем так. Вернее, это вообще не так. Когда в 1995 году я впервые поехал на сборы в альплагерь в Казахстане, неподалеку от Алма-Аты, то мое первое восхождение на гору высотой чуть более 4 000 метров закончилось спасработами… причем спасали меня.
Команда новичков под руководством нашего тренера планировала подняться на пик Маншук Маметовой в горном районе Туюк-Су. Это было восхождение самой простой категории сложности – этакое посвящение в альпинисты.
Я не предвидел никаких сложностей, однако на отметке 4 000 метров у меня появились признаки горной болезни. Несмотря на всю мою физическую подготовку, организм плохо переносил высоту: жутко заболела голова и пошла кровь из носа. Накатила такая апатия и усталость, что я вообще не мог передвигаться. Тренер предложил мне остаться в безопасном месте под вершиной, откуда уже на спуске группа меня заберет. В итоге спустился я с другими альпинистами, которые возвращались с более сложного маршрута. Путь с ними тоже не был прост: один из участников споткнулся, и мы начали падать по крутому снежно-ледовому склону, но один из участников успел зафиксировать всю связку на воткнутом в снежный склон ледорубе. Если бы не его расторопность, то я, возможно, так бы и остался на той горе навсегда.
В том походе я впервые начал сомневаться, смогу ли я подниматься на более высокие вершины, и действительно осознал, что в горах можно погибнуть.
Помню, что тем вечером я подошел к нашему тренеру и грустно посетовал на то, что, видимо, альпинизм это не мой вид спорта, и высокие горы навсегда останутся для меня несбыточной мечтой, на которую со вздохами я могу смотреть только по телевизору. Меня тогда очень удивил его ответ – он сказал: «Ты знаешь, это ничего, ты продолжай пытаться». Для меня в тот момент это прозвучало, как насмешка – что значит продолжай пытаться?! Я вроде как только что чуть не умер, у меня вся куртка залита моей кровью, а мне говорят «продолжай пытаться»! Я же жить хочу!
Я хотел жить, но не хотел успокаиваться. И поэтому в тот год я все-таки выполнил разряд новичка по альпинизму, не поднимаясь при этом на вершины высотой более 4 000 метров.
На следующий год нашу молодую команду отправили восходить на Эльбрус. Поднялась вся команда, кроме меня – на отметке в 4 000 метров вновь объявилась моя горная болезнь.
Во время подготовки к Эльбрусу я все делал правильно, как по учебнику, следовал всем советам тренера – а закончилось все так же, как и в предыдущий раз. Усталость, апатия, фонтан крови из носа, неспособность идти, спасательные работы, беседы с тренером и растущая уверенность, что выше 4 000 метров горы для меня закрыты.
И вот тогда я поставил крест на своем желании покорять высокие горы. В альпинизме такая практика считается нормальной, и этот вид спорта предлагает много других соревновательных классов. Например, норматив «мастер спорта» я выполнил в классе технических восхождений, где были сложные маршруты на невысокие горы.
Отметка в 4 000 метров на тот момент стала для меня барьером, о котором я даже боялся подумать. И вдруг сборная Санкт-Петербурга зовет меня поехать с ними на пик Ленина высотой 7 134 метра.
Я спросил:
– Зачем вы меня зовете? Я же все равно не поднимусь на такую высоту.
А они мне ответили:
– Да ладно! В базовом лагере посидишь, посмотришь новый район, борща поешь. А на гору и так есть кому сходить.
Тогда я согласился и поехал. А чуть позже не верил своим глазам, когда при восхождении мой GPS показывал цифры 5 000, 6 000 и 7 000 метров. В тот раз из всей команды на вершину поднялись только двое: руководитель и я.
Как бы вы ни были готовы к восхождению и новой вершине, всегда может найтись такая гора, на которую вы не сможете подняться с первой попытки.,
Внешние или внутренние причины остановят вас на середине пути или вернут к началу. Главное – не опускать руки, продолжать работать над собой и пробовать новые, нереальные на первый взгляд шаги. В альпинизме, бизнесе или жизни.
Три панамы, сгущенка со спиртом и удар молнии
Несколько зарисовок из первых лет моей альпинистской жизни.
Человеческий организм скрывает в себе колоссальные возможности, о которых вы даже не подозреваете. Просто чтобы проверить это, необходимо периодически совершать попытки расширить свои границы и делать что-то за гранью нормы, за границей своего обычного предела. Усилия, которые вам понадобятся для этого, я называю маржинальными усилиями. Их ценность очень высока. Благодаря маржинальным усилиям спортсмены выигрывают Олимпийские игры и ставят мировые рекорды. Благодаря маржинальным усилиям сотрудников компании ее бизнес растет, и компания занимает лидирующие позиции на рынке.
У некоторых тренеров есть гениальное в этом плане упражнение, которое называется «до отказа». К примеру, вы привыкли, что ваша норма – это 30 приседаний. И больше вы никогда в жизни не делали, просто потому что вам это не требовалось. И вдруг в один прекрасный день ваш тренер говорит вам: «А давай-ка ты сегодня попробуешь сделать это упражнение до отказа!»
«Серега, пойдем, подтянешься за сборную нашего факультета? – с надеждой глядя в мои глаза, попросил Гена Блинов. – Как думаешь, сколько раз ты сможешь?»
«Понятия не имею, – задумчиво ответил я, – может быть, раз двадцать и подтянусь. Но ведь я учусь в другом университете, меня точно допустят?»
«Да там никто не проверяет, это межфакультетские соревнования на военной кафедре. Просто скажешь, что ты в команде электрофака, поверят на слово», – продолжал настойчиво друг.
«А двадцать раз точно будет достаточно?» – неуверенно спросил я, боясь подвести команду и надеясь, что они найдут другого кандидата.
Другого кандидата в команду найти не удалось. Я до этого никогда в жизни не подтягивался больше пятнадцать раз: просто это нигде не требовалось. На тренировках по скалолазанию мы зачастую после основных занятий переходили к ОФП[3] и подтягивались на турнике, играя в «американку». Но в этой игре никто из нас не переходил границу в 10–12 подтягиваний.
«Нале-во!» – раскатисто скомандовал усатый полковник, руководивший сменой команд факультетов между спортивными снарядами.
«Подождите, висит же еще, висит!!!» – наперебой закричали зрители, показывая полковнику пальцем в мою сторону. Я висел на турнике на одной руке, пытаясь легкими встряхиваниями унять судорогу в мышцах другой руки. Тридцать подтягиваний назад этот способ еще помогал мне, но на этом этапе уже ничто не спасало. Я ухватился за турник второй рукой и, мучительно выдавливая из себя последние капли усилий, умудрился подтянуться еще один раз.
«Семьдесят четыре!!!» – громогласным шаляпинским басом объявил мой результат стоявший рядом с турником майор, который отвечал за подсчет результатов. Он был так доволен всеобщим вниманием к нему, что казалось, что это именно он только что установил абсолютный рекорд Уральского государственного технического университета имени Б. Н. Ельцина.
Я проходил в раздевалку сквозь толпу кричащих студентов, которые улыбались и хлопали меня по плечам и спине. Потом уклончиво отвечал на вопросы усатого полковника, который настойчиво выяснял мои имя и фамилию, в попытках завербовать на военную кафедру. Три дня после этого случая я не мог поднять руки вверх. И ни разу с тех пор я не подтягивался больше пятнадцати раз. Просто потому, что это больше никогда не требовалось.
Для того чтобы получить разряд кандидата в мастера спорта по альпинизму, мне надо было обязательно сходить на маршрут одной из высших категорий сложности в качестве руководителя.
Когда мы преодолели ледниковую часть маршрута и вышли на скальную, по которой мне предстояло лезть первым, я снял рюкзак, чтобы переодеться – поменять тяжелые альпинистские ботинки на легкие скальные туфли. И именно в этот момент налетел порыв ветра и унес в пропасть мой рюкзак, который стоял на самом краю. В рюкзаке было все мое теплое снаряжение: спальный мешок, пуховка, штаны, варежки и, конечно, ботинки. Я остался на морозе в легком анораке, флисовых штанишках и скальных туфлях, которые больше похожи на пуанты балерины – в них нога хорошо чувствует скалу.
Меня поддержала вся команда: собрали одежду с миру по нитке. Чтобы не замерзнуть, ночью я спал в палатке между двух человек, засунув ноги в три рюкзака и натянув на голову три панамы. Меня после этой ночевки называли «Серега три панамы».
Для меня это характерный пример альпинистской взаимовыручки, когда, казалось бы, все, вариантов нет, без снаряжения надо поворачивать назад. Но нет –
с помощью друзей стало возможным пройти сложный маршрут до конца и после потери рюкзака, без снаряжения и теплой одежды.
Другой случай был в Фанских горах в Таджикистане, когда мы с напарником вышли на сложное восхождение в рамках выполнения первого разряда по альпинизму.
Это было мое первое восхождение в двойке, когда вы идете на вершину не в команде из нескольких человек, а только вдвоем. Такое восхождение – обязательное условие, чтобы выполнить первый разряд по альпинизму. И это действительно непростая задача – идти по сложному маршруту только вдвоем, без поддержки большой команды.
Так получилось, что мы немного не рассчитали силы, и на маршруте, который мы планировали пройти за один день, застряли около вершины на холодную ночевку, которая также стала для меня первой холодной ночевкой в жизни. Погода испортилась, пошел снег с дождем, который на скальной стене сразу превращался в лед, лезть выше было очень опасно, и мы решили заночевать на маршруте в том месте, где нас накрыла ночь.
Надо пояснить, что в альпинизме холодной ночевкой называется ситуация, как правило, непредвиденная, когда восходителям приходится провести ночь прямо на горе, без необходимого для этого снаряжения: палаток, спальников и теплых вещей. Результатом этого часто является серьезное переохлаждение, вплоть до смертельных случаев.
В тот раз у нас не было с собой ничего, чтобы провести ночь на горе: ни палатки, ни еды, ни теплой одежды, поскольку мы не рассчитывали ночевать на маршруте. Мы нашли небольшую пещеру, стены которой были залиты льдом, но хотя бы укрывали нас от ветра, и стали ждать рассвета.
И вот ночью, под вершиной, мы сидим в ледяной пещере на бухтах своих веревок, засунув ноги в рюкзаки, чтобы сохранить тепло. Дождь прошел, и над нами открылось глубокое черное небо с огромными звездами. Мы смотрели на звезды и тряслись от холода.
Все, что у нас было из продуктов, – это банка сгущенки. И у товарища оказалась маленькая бутылочка со стопроцентным медицинским спиртом. Зачем он ее взял с собой, он не мог объяснить. Так, говорит, захватил на всякий случай для дезинфекции. В ту ночь я впервые попробовал стопроцентный медицинский спирт, потому что ничего больше не было – ни воды, ни еды. Мы открыли банку сгущенки, проткнув ее ледорубом, пили сгущенку через дырочку и запивали ее чистым спиртом.
Ночь прошла, как в бреду. От холода мы не могли заснуть, постоянно махали руками и ногами, стараясь разогнать кровь и избежать обморожения. Чтобы сохранить остатки тепла, мы заматывались в веревки, кутались в рюкзаки, сидели в обнимку. Так нам удалось пережить эту ночь в залитой льдом пещере без серьезных последствий.
Как только забрезжил рассвет, мы вылезли на гребень, и когда горы окрасились восходящим солнцем, я сделал одни из своих самых красивых фотографий. Мы были, как два деревянных солдата из сказки про Урфина Джюса – замерзшие, окоченевшие, вымотанные бессонной ночью.
Постепенно с восходом солнца мы оттаяли, сходили на вершину и спустились вниз. Это было физически очень сложное восхождение, мы еле-еле передвигали ноги. И эту ночь, проведенную сидя на веревках, со сгущенкой и спиртом, я буду помнить всю жизнь.
Бывали и совсем невероятные случаи, которые обычному человеку могут показаться выдумкой или мистикой.
Один раз на вершине в меня ударила молния. Это случилось тоже в Фанских горах. Мы шли на очень простое восхождение, чтобы «открыться», то есть в начале экспедиции сходить на простую гору, размяться, а потом уже выходить на сложный маршрут.
Во время этого восхождения неожиданно испортилась погода, прямо под вершиной началась сильная гроза. Мы могли бы повернуть в лагерь, но нужно было снять с вершины записку, оставленную предыдущей группой.
В альпинизме есть правило: приходя на вершину, нужно забрать записку команды, которая была на вершине до вас, и оставить записку о себе – с названием группы, фамилией руководителя и пройденным маршрутом. И эта записка является доказательством того, что вы побывали на вершине. Благодаря такому учету ведется летопись, кто куда поднялся. Ведь раньше не было миниатюрных фотоаппаратов, чтобы заснять факт восхождения, и поэтому все группы альпинистов снимали записки коллег и писали свои.
Надо сказать, что при штурме уникальных вершин, на которые поднимаются не каждый год, без фотоаппарата не обойтись. И когда мы поднялись на пик Жанну в Гималаях, только предусмотрительность Валеры Бабанова, который настоял на том, чтобы мы взяли с собой два фотоаппарата – цифровой и пленочный, – помогла нам сделать подтверждающие фотоснимки. Цифровой фотоаппарат не выдержал холода и перепада высот, и нас выручил старомодный, но надежный пленочный.
В то восхождение в Фанских горах снятие записки с вершины совпало с началом сильной грозы. Мы надеялись, что успеем быстро добраться до вершины до шторма, но план не сработал. На вершине мы оказались, когда уже хлестал дождь и сверкали молнии. Добравшись до консервной банки, в которой был полиэтиленовый пакет с запиской, мы услышали ужасный грохот и почувствовали, как через всех нас прошел электрический разряд – прямо в нас ударила молния!
Если бы я был на поверхности земли на уровне моря, то моментально бы погиб. Но в горах, поскольку облака часто касаются вершины, для разряда молнии требуется гораздо меньшее напряжение пробоя. Видимо, в тот раз напряжение разряда было совсем низкое, и поэтому никого из нас не убило.
Так мы выяснили опытным путем, что после удара молнии в голову можно остаться живым.
Кстати, когда альпинисты снимают с вершин чужие записки, помещенные в консервные банки, на этих банках видны пробоины, похожие на следы от пуль из мелкокалиберной винтовки. На самом деле, эти пробоины оставляют молнии, которые месяцы или годы бьют в такие банки с записками альпинистов.
Другое уникальное природное явление, которое мне довелось наблюдать, – это огни святого Эльма.
Эта история случилась в 2000 году на чемпионате России по альпинизму на Кавказе. Около двадцати команд со всей страны принимали участие в этих соревнованиях.
Внезапно пришел грозовой фронт, вызвавший сходы колоссальных лавин и камнепадов. Некоторые команды попали в беду, были и погибшие. Наша группа на восхождении попала в страшную грозу, но мы продолжали идти к вершине, потому что путь вниз для нас был отрезан камнепадами. И тогда я увидел такое явление, как огни святого Эльма.
Это холодное свечение разрядов тока, которое возникает, когда воздух пронизан электричеством. И на каждой ворсинке моей одежды – на варежках, на острых кончиках куртки, везде – горели холодные огни. Я пытался их стряхивать с рукавиц, обтирать руки, но огоньки опять загорались. Воздух звенел от электричества. Мы сняли с себя все металлическое – карабины, кошки, скальные крючья, ледорубы – чтобы не притянуть удар молнии. И вышли на предвершинный гребень, чтобы поставить палатку и переночевать.
Я думал, что огни святого Эльма бывают только в морских историях, но увидел их своими глазами в горах.
Я не был тогда профессиональным спортсменом, чтобы заниматься только тренировками и восхождениями. После окончания университета я учился в аспирантуре и работал преподавателем на кафедре физики и теоретической теплотехники, преподавая студентам десятки различных дисциплин. Но по мере того, как я открывал для себя мир гор, восхождений и альпинизма, меня все меньше привлекала карьера преподавателя. И однажды я сделал решающий шаг.
