Россия и Дон. История донского казачества 1549—1917.
Tekst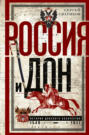


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 900 str. 5 ilustracji
- Kategoria: literatura historyczna
Несомненно, оба члена Земского собора, предостерегавшие царя от посылки воевод на Дон, были правы, ибо воеводское управление пошло бы вразрез с республиканскими навыками и правами казачества. Царь Феодор, угрожая в 1593 г. «поставить город; на Раздорех», то есть в центре казачьей территории, знал, чем грозил. Позже, в 1674 г., казаки учинили то, что теперь зовут саботажем, в вопросе о постройке царской крепости на р. Миусе, то есть в сфере влияния, если не во владениях донских казаков. «И потому знатно, что то городовое на Миусе строение отговариваете вы, – писал царь, – не хотя в том нам, великому государю, послужити, и то вы учинили не делом»[139].
В постройке царских городов вблизи пределов Войска казаки видели угрозу своей независимости.
В 1632 г. они угрожали Царицыну – «пришод город зжечь и людей побить за то, что, – по словам воеводы, – им воровским казакам от царицынских служилых людей чинится теснота великая, везде-де их казаков, на переходех (к Волге) побивают, и в языцех емлют и приводят на Царицын. И Царицын им, воровским казакам стал пуще Азова»[140].
В истории отношения Дона к Москве, помимо челобитья казаков царю городом Азовом, был лишь один случай, когда Войско, истощенное «азовским сидением» и тяжкой борьбою после ухода из Азова, готово было просить не только о присылке вспомогательных царских войск на Дон, но и о постройке городов на Дону. Это было в 1648 г.[141] Позднее же, в 1683 г., казаки возводили обвинение в подстрекательстве к нападениям на Волге на царицынского дворянина Ив. Бакунина. Последний оправдывался, что это месть казаков за то, что он «делал валовой чертеж от Царицына через степь по Дону, до Паншина городка, где пристойно быть в котором месте каким крепостям». Правительство повелело поэтому Бакунина «ни для каких дел на Дон не посылать, чтоб ему, Ивану, от казаков убиту не быть»[142]. Стало быть, и казаки, и правительство отлично понимали значение царских крепостей на казачьей территории.
Спрашивается, какие правительственные лица, помимо казачьих выборных властей, могли пребывать и действовать на территории Донской республики. Это были царские послы, ехавшие в Турцию и обратно, и специальные посланцы на Дон, к казакам, с грамотами и государевой казной[143]. Обыкновенно это бывали дворяне. Посла встречали в верховых городках и провожали вниз от городка к городку. Церемониал приема был установлен обычаем и повторялся в наказах послу из Посольского приказа.
Вот образец наказа 1682 г. (3 мая): «А как он, Егорей, учнет приезжать близко Дону Черкасского городка, и ему послать от себя из вожей или из провожатых нарочитого человека, кого пригоже, в Черкасской, велеть атаманом и казаком про себя сказать, что он прислан к ним великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великие и Малыя и Белыя России, самодержца с грамотою, и чтоб о том у них в войску ведали. Да как он, Егорей, на Дон в Черкасской приедет, а двор ему, где стоять дадут, и ему приказать к атаману и казакам в войско, чтобы они собирались в круг все к церкви Божии, и вел. государя грамоту у него приняли и выслушали».
«Да, как атаманы и казаки в круг соберутся, и ему при всех говорить: атаманы и казаки, Фрол Минаев и все Войско Донское. Великий государь царь (полный титул) велел вас, атаманов и казаков и все Войско Донское спросить о здоровье».
«И, изговоря речь, подать им грамоту… Да как атаманы и казаки великого государя грамоту у него, Егорья, примут и в кругу, вычтут и выслушают, и Егорью говорить: атаманы и казаки, Фрол Минаев и все Войско Донское. Великий государь царь (и проч.) велел вам говорить»[144]. Далее шла деловая часть речи.
Со стороны казаков выработался также свой обряд встречи царских послов: «встречали всем войском, конные и судовые и пешие люди, и из наряду (из орудии) и из ручного ружья стреляли… и послов принимали честно, и за царское многолетнее здоровие молебны пели со звоном и после молебнов послы грамоту в кругу отдали и царское жалованное слово против царской грамоты казакам говорили, и казаки тое царскую грамоту у послов принимали честно и в кругу чли… И, – писалось обычно, – казаки царское жалованье, деньги и сукна у послов царских приняли с великою радостью»[145].
Послам на Дон давался наказ, в котором обычно были секретные статьи о тайной разведке на Дону. С тою же целью воеводы украинных городов посылали людей на Дон. Казаки знали или догадывались об этом. Так, в 1638 г. поместного атамана Ив. Арефьева и Ст. Пареново, посланных с Воронежа воеводою, казаки в верхних станицах спрашивали, «для какова дела послан и дана ль к ним отписка и ему, Степану, наказная память. И ему, Степану, сказать было нечево, потому что отписки и наказные памяти ему дано не было. И за то-де называли ево лазутчиком, и хотели ево убить»[146]. В 1641 г. волуйскому воеводе был наказ послать на Дон станичников, «и они б проведали тайно, што у них делаетца… и сколько человек их». В 1646 г. Ждану Кондыреву наказывали «рассмотреть подлинно тайно в городкех, в которых ныне живут на Дону атаманы и казаки, сколь велики те места и каковы крепости поделаны». В 1683 г. казаки «в кругу имали Ельчанина Евсея Бехтеева и говорили ему: что он за дворянин. Есть ли у него великого государя указ, с чем он к ним приехал»… И, когда Бехтеев «в речах разошелся», хотели его «в воду посадить». Что касается Разина, то он, появившись в 1670 г. на войсковом круге со своими сторонниками, допрашивал Герасима Овдокимова, приехавшего с царской грамотой на Дон: «от кого он приехал, от великого государя или от бояр». Затем назвал его «лазутчиком» и, бив до полусмерти, посадил в воду[147].
С.М. Соловьев отмечает «всегдашнюю идею Москвы – ставить воевод»[148]. Но на Дон Москва после 1592 г. и не помышляла послать воевод. Еще в 1638 г. атаман Мих. Татаринов на вопрос в Посольском приказе ответил: «А в помочь-де себе о воеводе и о ратных людех с ним от Войска государю бити челом не наказано, и чево-де с ними не приказано, и тово-де они и делать не смеют…»[149]
Однако в 1645 г. Войску пришлось очень плохо, и на помощь ему были посланы: из Астрахани князь Семен Пожарский с войском, а из Воронежа дворянин Ждан Кондырев с 3000 чел., набранных им «вольных охочих людей», и Петр Красников с 1050 человек таких же «новоприборных вольных казаков». В 1648 г. был прислан дворянин Андрей Лазарев, с ним 1 «маер», 4 капитана, 5 «порутчиков» и 1000 солдат. И казакам и военачальникам повелевалось обоюдно быть «в совете», служить «без всякого розвратья»[150]. Таким образом, начальники вспомогательных войск на Дону обязаны были предпринимать все шаги «по совету» с казаками. В 1660 г. были присланы на Дон на помощь с Воронежа воеводы Семен и Иван Хитрово с войском. 4 июля 1661 г. казаки жаловались, что Иван Хитрово называл их изменниками и «с ними, атаманы и казаки, ни о каких государевых делех не советует и им с ним на великого государя службе быти нельзя…». Царь обещал «сыскать» о том, а Хитрово было написано «иметь совет» с казаками[151]. Таким образом, о воеводском управлении на Дону, о вмешательстве во внутренние дела Дона не было и речи.
Появление, хотя и временное, вспомогательных царских отрядов на Дону не могло очень нравиться казакам. В 1661 г. они жаловались: «как стала на Дону война быть, такого утесненья нам никогда не бывало – для промыслов ходить некуда и многие без промыслов с Дону от нас разбредутся»[152].
Сравнивая, опять-таки, положение Малой России после 1654 г. и Дона в период 1614–1721 гг. и даже позже, до самого XIX в., мы видим, что все преимущества были на стороне Дона. В самом деле, статья I Статей Хмельницкого (12 марта 1654 г.) устанавливала, «чтоб в городех (Малой России) урядники были из их людей обираны… для того, что Царского б Величества воевода, приехав, учал права их ломать и уставы какие чинить, и чтоб им было в великую досаду; а как тутошние их люди где будут старшие то они против прав своих учнут исправляться»[153]. Царь согласился, оставивши право контроля над местной выборной администрацией в финансовом отношении за приезжими из Москвы чиновниками. О воеводах не было и речи, но вскоре же они были поставлены в Киеве и Чернигове, затем в Нежине, Переславле, Остере. В статьях Многогрешного (1669) было оговорено, что воеводы – лишь начальники московских гарнизонов и не имеют права вмешиваться в их (жителей) права, и вольности, и суды, и всякие дела[154].
Что касается Дона, то не только до 1671 г., но и после 1721 г. и после 1775 г. не было и речи ни о гарнизоне царских войск на Дону, ни о назначении туда чиновников для управления. Все дела вершились местными людьми. Однако, как только Дон позвал метрополию на помощь, так тотчас почувствовал неудобства этого положения.
Роковое для казачьей независимости царствование царя Алексея Михайловича, уже в начале его, ознаменовалось некоторыми выступлениями московского правительства против республиканского правления на Дону. Так, по наказу из Москвы, дворянин Ждан Кондырев, приведший на помощь Дону, в общем, 4000 человек вспомогательного войска, не пожелал идти на круг и звал атаманов и казаков к себе на стан. Войсковые есаулы от круга вторично звали Кондырева на круг. «А Войску-де Донскому к вам, – заявили есаулы, – в стан не хаживать, и напредь-де сего того не бывало, что атаманам и всему Донскому Войску к вам, к стану, ходить и то-де вы затеваете собою… и в государевой-де грамоте того к Войску не писано…»
Так пересылались с 26 по 30 мая (1646) включительно. Ждан Кондырев «против» (то есть согласно) «государева указа стоял накрепко и посылал к казакам многижда»… Наконец, 30 мая сослался на указ и требовал, чтобы «казаки не упрямились». Войсковой есаул Захар Дементеев и два казака из круга заявили: «и вы упрямитесь, и затеваете собою, и государевым делом не радеете, и в круг нейдете, и тем Войско безчестите. А у нас тово в Войску николи не повелось, что ходить Войску к вам на стан; а мы-де для вас круги збиваем, и затем-де у нас государева служба стала, что вы в круг нейдете и государевы казны не отдаете. А у нас-де, как и зачалось Донское Войско, такового образца не бывало, что Донскому Войску на стан ходить или иные какие статьи переменять. И о том-де у нас в кругу приговор, как истари было, так и ныне будет. И велели вам от Войска говорить, будет вы к нам в круг не пойдете, и впредь к вам о том от Войска пересылки никакие не будет, и государевы казны и запасов не примем»… Казаки требовали, чтобы посол писал государю об указе, и сами обещали писать.
Ждан Кондырев устроил компромисс. Пригласил казаков к часовне на молебен, а сам, вышедши к ним, сказал казакам то, что должен был говорить в круге[155].
Это было первое выступление Москвы против республиканской колонии, попытка умалить достоинство державного круга Донской республики.
Второй раз дала почувствовать казакам Москва, что обращение их к ней за помощью грозит колонии умалением ее политических прав, – в 1646 г. посланец Андрей Лазарев тоже заявил, чтобы казаки шли на стан, а ему идти на круг «непригоже». И казаки «учинились непослушны против государева повеления, к нему в талер милостивых слов слушать не пошли, государева жалованья и казны тут у него не приняли»… Семеро «крепостных людишек» Лазарева сбежали к казакам, а он вздумал, находясь в стране «казачьево присуду», послать за ними на розыски офицеров иностранцев из своего отряда. «И им, иноземцем, за то в кругу многие были позорные лаи. А меня, – жаловался Лазарев царю, – холопа твоего, сверх разоренья моего, хотели убить в кругу до смерти без вины моей, что Ив. Карамышева: прислали по меня в тот день и с кругу есаулов звать к себе в круг, чтоб я пришел в круг к ним сам говорить об людех своих».
Казаки были правы, охраняя свою юрисдикцию от невежественного вмешательства московского приказного. Именно в кругу и надо было принести жалобу. Но Лазарев этого не хотел понять. «И, – писал он, – я, боясь твоего государева страху и за своею болезнью, к ним в круг не пошел и есаулам их в том отказал, что в круг к ним нейду о разоренье своем и о людех. Будет они не сыщут, буду милости просить у тебя, а не у них».
Это было явным покушением на верховные суверенные права Войска. «И они (казаки) тово-ж часу в круге закричали все, что за те слова мои любо меня убить; а и саблю войсковую, чем было меня казнить, выдали, а по меня прислали ис круга», двух посланцев, «а с ними многих казаков, и велели меня за ноги приволочь до кругу… И твои государевы люди, салдаты, видя их безстрашное суровство, за твое государьское имя стали, меня волочить за ноги в круг не дали. И хотели с казаками битца смертным боем. Видя казаки их твердое стояние, убивство мое уж с тех мест оставили и в круги свои уж с тех мест звать не почали, и беглых людей моих от себя из Черкасска в верхние городки товож дни выслали».
Лазареву было приказано из Москвы солдат его оставить на Дону, предложивши им поступить в донские казаки. После молебна по этому случаю царского посла «в воротех есаулы их и казак Василии Зевака с «товарищи» взяли «к себе в круг неволею»… «А, – писал Лазарев царю, – сказали, что за мною твое государево великое государственное дело и войсковое. И привели меня в круг, что пленнова, и в кругу мне атаман их войсковой Наум Васильев почел говорить речь, что я на них к тебе государю писал их первое в приезде непослушание, и за то-де твое письмо атаману нашему станишному на Москве выговоры были большие; а кто-де у нас на Дону от государя не бывал, честнее тебя, и те-де на нас государю тово не писывали, и в круг к нам все хаживали. Да ты ж де писал на нас государю многижда, утаясь от нас, многия затейные слова»… Однако Павел Чесночихин, на которого сослался атаман, ссылки не подтвердив, и на атамана Наума Васильева казаки «сиятельством крикнули» и освободили посла[156].
Москва и в дальнейшем пыталась поддержать политику умаления прав круга, но есть ряд известий, что последующие досланцы ходили на круг[157]. Взять хотя бы, к примеру, известный уже нам наказ 1682 г. Таким образом, подорвавши силы на геройском подвиге взятия Азова и пятилетнего им владения, донские казаки должны были почувствовать, что с их державным народным собранием начинают поговаривать на московском языке.
Глава 11
Дон и Московское государство. 1614–1671 гг
После революционной эпохи, когда казаки вмешались в жизнь метрополии, после учредительного Земского собора, в котором приняли участие случайные и отдельные донские казаки, граждане вольной колонии не имеют отношения ко внутренней жизни метрополии. Некоторые историки[158] ошибочно полагают, что земля донских казаков, как одна из русских земель, принимала участие в Земских соборах через своих выборных. Но мы находим указание на участие в соборе именно донских, а не служилых поместных казаков, лишь однажды. А именно, в составе собора 12 октября 1621 г., после «голов и сотников, и детей боярских всех городов, и гостей, и торговых людей», помянуты «донские атаманы и казаки», и после них идут «и всяких чинов люди Московского государства»[159].
На первый взгляд это точное упоминание (донские) может заставить думать, что это были выборные, по уполномочию или выбору Войска, депутаты от Дона во всероссийском представительном собрании. Более близкое знакомство со способом составления соборов в XVII в., а также с текстом документа, опровергает это предположение. Известно, что в экстренных случаях, собирая собор, звали на него не выборных с мест, а просто наличных, в Москве пребывающих, служилых людей из известного города. А собор 1621 г. решал весьма экстренный вопрос о неминуемом разрыве и войне с Польшей. На войну вызвали бы и донских казаков. Естественно было позвать, как экспертов, сведущих людей и донских казаков. На Москве могла находиться Донская «станица» (посольство). Ее могли и позвать «для совету» и за справкой.
Но дело решается гораздо проще. В решениях собора имеется постановление: поручить «разбирати», то есть привести в состояние военной готовности, войска – воеводам. В частности, в Путивле стольнику кн. Туренину и воеводе Собакину поручено было разобрать боярских детей в ряде «северских и польских городов», в том числе и «донских атаманов и казаков, которые живут в Путивле и в Рыльске»[160]. Мы знаем уже (см. гл. III), что это были две станицы донских казаков, призванные на службу после возобновления разоренных во время Смуты Путивля и Рыльска. Это были служилые, жилые, а не «вольные донские» казаки. От них-то и были депутаты на соборе. Войско же Донское не принимало никакого участия в Земских соборах, ни как община донских казаков, ни как государственная организация.
Самостоятельный во всех своих внутренних делах Дон руководился в своей жизни так называемым «войсковым правом». Это был комплекс положений, касавшихся государственного, административного, уголовного и гражданского права. «Войсковое право» было обычным правом, никем не собранным, никем не написанным. Десятилетие за десятилетием накоплялись эти нормы, касавшиеся круга, атамана, сношений с Москвой и другими народами, касавшиеся внутреннего распорядка, суда и наказания. Московское право не распространялось на казаков. Первый свод российских законов, упоминавший о казаках, был – Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. Там мы находим наказание для казаков, «збежавших» со службы, размер «окупа» за пленного казака (25 р.), определение наказания казаку за обесчещение бояр и других привилегированных лиц словом (кнут и две недели тюрьмы), запрещение казакам продавать свои вотчинные земли, размер «печатной пошлины» с грамот казакам и т. д.[161] Но все это относится к казакам «кормовым», «поместным», «городовым», а не к вольным донским казакам. Московское правительство считало донских казаков подлежащими суду и наказанию только Войска по «их войсковому праву». В 1625 г. Михаил Феодорович ссылался на существовавший в Войске Донском, в начале XVI в., «крепкой заказ, хто куды пойдет без ведома войскового, и тех кажнивали смертью». Царь просил Войско казакам, ходившим (для разбоя) на Волгу и на Яик, «и впредь чинить наказание по своему суду, как у вас на Дону повелось»[162]. В 1671 г. царь Алексей Михайлович просил Войско «пущим заводчиком (бунта) учинить указ по войсковому праву»[163]. 8 октября 1673 г. царь писал: «послать вам, атаманам и казакам вверх по Дону, в городки к казакам листы свои с жестоким своим казацким правом, чтобы они беглых ратных людей к себе не принимали»[164]. В 1683 г. предлагается Войску – казакам, погромившим «юртовых» (мирных) татар, – «велети учинить наказание по своим войсковым правом»[165]. 17 августа 1700 г. воспрещается чинить посланным для осмотра казачьих лесов царским чиновникам «противности и запрещение» под «жестоким своим войсковым приговором»[166].
И в XVIII в., когда Дон был уже Российской автономной провинцией, право казаков быть судимыми исключительно в Войске, на Дону, продолжало признаваться на Москве. Появились в грамотах, адресованных на Дон, выражения: «по обыкности», «по казацкому обыкновению» (1715), «по казачьему артикулу» (1764), но сохранилось и выражение: «по их войсковому праву»[167].
Наказания по «войсковому праву» отличались крайней жестокостью: за большинство преступных деяний полагалась смертная казнь от руки самих казаков. Но в Войске не было палачей, и в 1756 г. Войско заявляло петербургскому правительству: «никогда и никого Войска Донского казаков кат (палач) не бьет, а наказываются насеками и плетьми самими же казаками»[168].
В XVI–XVII вв. Войско Донское считало подлежащими своей юрисдикции всех находившихся на его территории и, фактически, притязало даже судить и послов (убийство русского посла Карамышева, турецкого посла Кантакузена, расправа с Лазаревым). В 1641 г. казаки казнили стрельца из вспомогательной рати Пожарского, зная, что он стрелец, то есть подлежит суду воеводы. Казнили его потому, что «кража у них не повелась и спуску за то не бывает»[169].
Однако общим правилом эпохи была подсудность людей тому сословию, к которому они принадлежали по рождению или положению. В виде общего правила были на Дону неприкосновенны послы; ратные люди вспомогательных армий подлежали суду своих воевод. На отсылке так называемых «русских», то есть неказаков, для суда в российские города стало настаивать русское правительство в XVIII в. В XVI–XVII вв. донцы судили своим судом и приезжих на Дон русских людей.
Зато, по отношению к казакам, было установлено твердое правило неподсудности их московскому суду. Современник (Котошихин) пишет: донские казаки, «будучи на Москве или в полках кто что сворует, царского наказания и казней не бывает, а чинят они меж собой сами же. А кого случится им казнить за воровство или иные дела, а не за крепкую службу, и тех людей, посадя на площади или на поле, из луков или из пищалей разстреливают сами»[170].
И действительно, до 1671 г. казаки на Москве пользуются полной неприкосновенностью. Московское правительство очень льготно относится к проступкам казаков, хотя некоторые из них были довольно серьезны. Только в двух случаях правительство арестовало казаков и наказало их. В 1641 г. войсковой дьяк Феодор Порошин приехал в Москву в зимовой станице, есаулом при атамане Науме Васильеве, который, до отправления в Москву во главе посольства, был войсковым атаманом. Порошин уверил правительство, что Васильев приехал в качестве войскового атамана, а он – войскового есаула. Эта ложь была открыта, и царь за обман повелел послать Порошина в Сибирь[171]. Другой, казак Зайка, был наказан как изменник, бегавший из Дону в Азов, снова на Дон, и снова в Азов[172].
Дела по жалобам и искам самих казаков к московским людям производились в Посольском приказе. При осложнении отношений, при увеличении сношений, казаки стали обращаться к воеводам украинных городов. В 80-х гг. XVII в. часто случалось, что воеводам били челом на служилых людей, на помещиков, казаки – их же бывшие крепостные, бежавшие незадолго перед тем на Дон и ставшие, таким образом, свободными. Стоит прочитать челобитную царю от «Тонбовских служилых людей» (1685), чтобы понять, в какую ярость приводило помещиков это обстоятельство: вчерашний раб, ставший путем побега свободным, требовал суда на бывшего господина и получал его. В гибели донской независимости настойчивые домогательства поместного класса, особенно украинных земель московских, сыграли немалую роль[173].
В 1645 г. на Воронеже жили, в ожидании навигации по Дону, казаки и вели себя своевольно, и воевода Бутурлин беспомощно писал царю: «у меня такова твоего государева указа нет, что их (казаков) от всякого дурна унимать и беглых боярских холопей у них вынимать»[174].
В 1646 г. на Воронеже был сбор вольных охочих людей, которых за счет царя посылали на помощь Дону. Отовсюду бежали холопы и крепостные и, выдавая себя за вольных, записывались на службу. Помещики, получая «погонные грамоты», ехали в Воронеж, но законная власть не могла оказать им содействие. Воевода писал: «Мы посылали для выимки (беглых) приставов. И вольные люди учали приставов бить и за ними гонять до съезжего двора со многими людьми. А с ними пришед к съезжему двору, Донской казак Ивашко, прозвище Агарыш, учаль кричать во все люди: вы-де посылаете к нам на выимку и хотите вольных людей выдавать, и вам-де на Дону указ таков же будет, что и Ивану Карамышеву». Воевода жаловался казачьему атаману Павлу Чесночихину. «И атаман и казаки нам сказали: хто-де к нам не придет и у нас-де выимки не бывает; а только-де нам людей выдавать, и нам-де и на Дону не бывать». Правительство, скрепя сердце, и в этом случае написало Войску: «и вы б казаку Ивашку Огарышеву за такие дурные ненадобные слова учинили наказанье, чтоб ему и иным на то смотря, впредь неповадно было так плутать и такие ненадобные воровские слова говорить»[175].
Члены посольств (зимовых станиц) пользовались безусловной неприкосновенностью, равно как их свита и багаж. Только после 1671 г. правительство московское стало производить, по политическим причинам, аресты и среди участников зимовых станиц, рассматривая их уже как своих подданных, а не как послов иноземного государства. Так, 6 февраля 1688 г. были арестованы атаман зимовой станицы Кирилл Матвеев Чюрносов и 4 казака из станицы по делу о расколе на Дону[176]. В 1697 г. по делу заговора Цыклера на жизнь Петра I арестовали из состава зимовой станицы Лукьянова[177]. После восстания Булавина Петр должен был на запрос воеводы, как быть, написать (11 марта 1709 г.) в Воронеж: «зимовой станицы казаков, которые с Василием Поздеевым, Рыковских, Скородумовой, Тютеревской (станиц), – как поедут с Москвы не удерживать». Только поэтому они были отпущены[178].
Потеря независимости Доном сказалась и на отношении к казачьим послам. В 1684 г. приходил в Москву со станицею от походного войска атаман Иван Размочеев, был пожалован (царем) и на обратном пути коротояцкий воевода Опухтин «убил его до смерти и переувечил станичников». Следствие затянулось, и Войско вынуждено было заявить: «и впредь, великие государи, от таких воевод и от их смертного убивства и озорничества и от задержания к вам, великим государем, с вашими государскими делами и с вестовыми отписки посылать к вам немощно». Боярская дума и цари ответили, что об Опухтине «сыскивало и сыск к Москве прислан», и обещали сообщить о результатах суда[179].
Прием станиц на Москве хорошо описывал Котошихин, сам служивший в Посольском приказе: «А как сник Москве приедут, и им честь бывает такова, как чужеземским нарочитым людем»… Котошихин объяснил и причину, почему Москва должна была терпеть независимость Дона: «а ежели бы им (казакам) воли своей не было, (то) и они б на Дону служить и послушны быть не учали. И только б не они, Донские казаки, – не укрепились бы и не были бы в подданстве давно за московским царем Казанское и Астраханское царствы, з городами и з землями во владений»[180].
Политическая необходимость и собственная слабость заставляли метрополию мириться с существованием республики вольных русских людей. Как только Московское государство достаточно окрепло, чтобы своими силами начать движение к Черному морю, естественной грани его с юга, как только был взят Азов царскими войсками, тотчас же изменилась политика Москвы по отношению к Дону. Но еще ранее того произошло роковое столкновение начал, которые развивались и крепли на Москве, с началами, на которых была построена Донская республика.
Социальные условия на Москве все более ухудшались. Уложение царя Алексея Михайловича закрепило и объединило все законы о прикреплении крестьян к земле. Это вызвало новый отлив на украины и за пределы царства. Мечтою всех, кто был угнетен на Руси, был «тихий, вольный Дон». На Дон ехали гонцы, торговцы, и оставались на Дону «воровским делом»[181]. В челобитной (26 мая 1646 г.) стольники, стряпчие и дворяне московские просили царя, чтобы «впредь беглые холопы и крестьяне и их дети своим воровским побегом Доном от нас холопи наши в холопстве, а крестьяне в крестьянстве не отбыли. И не вели, государь, тем нашим холопем в холопстве, а крестьянам в крестьянстве быть свободным, как станут выезжать с Дону к тебе, государю»[182].
В этой челобитной заключалась просьба дворян об отмене векового права убежища, которое признавалось Москвою за Доном. До 1671 г. Москва не осмеливалась посягать на это право свободного Дона. При побеге людей на Дон давались помещикам «погонные грамоты»; по городам воеводам рассылались «заказные или заповедные грамоты»[183]. Но отбирать беглых у донских казаков никто не осмеливался. Царь приказывал воеводам из Воронежа и Волуек (при выезде казаков из пределов царства) «лишних людей никого с ними не выпускать», то есть тех, кто не был обозначен в «проезжей грамоте»[184].
Вообще, Дон ревниво охранял свое право политического убежища. «С Дона выдачи нет» – было девизом Дона, о котором в 1917 г. напомнил казачеству погибший от руки большевиков товарищ донского атамана М.Л. Богаевский.
В XVI в., пока московское правительство не установило еще определенного взгляда на политическую организацию донского казачества, оно требовало иногда, хотя и тщетно, выдачи отдельных лиц с Дона. Так, в 1584 г. послу, ехавшему на Дон, предписывалось «трех-четырех казаков переимать и в Москву привезти, а 5–6 пущих заводчиков бити кнутьями на Дону». Дело шло о нападении на другого русского посла на пути его на Дон[185].
Требование 1629 г. было гораздо скромнее: «сыскать воров (ходивших на море для нападений на Крым) и прислать имена тех воров к государю, к Москве»[186].
Котошихин хорошо описал донское право убежища. Он писал о казаках: «и многие из них московских бояр и торговые люди и крестьяне… А быв на Дону хоть одну неделю или месяц, а случится им с чем-нибудь приехать к Москве и до них впредь дела не бывает никому, потому что Доном от всех бед освобождаются»[187]. Воздух Дона делал людей свободными, это было незыблемым правилом XVII в. Действительно, обращения помещиков к правительству о возвращении в холопство беглого человека, приезжавшего уже в качестве казака с Дону в Москву, были тщетны[188]. Максимум неудовольствия, которое выражало московское правительство, когда на Москву приезжали казаки, недавно лишь убежавшие из Московского государства, заключался в сообщении о том Войску. Так, в 1637 г. царь писал Донскому Войску: «А вы тех новых казаков прислали к нам к Москве вместе со старыми казаки, не ведая, что они пришли к вам бегом внове». Поэтому царь приказал казакам, на которых было челобитье на Москве, своего государева жалованья (за приезд в станице) не давать, а на Дон «велел отписать, чтоб они впредь таких новоприходцев новых казаков к Москве в станицах не присылали для ссоры»[189].
И позже, в 1683 г., на челобитной о выдаче беглого крестьянина, прибывшего в станице с казаками на Москву, было написано: «И против сего челобитья в государственном Посольском приказе выписать не из чего, потому что напред сего донских казаков, которые приезживали к великим государем с Дону в станице, никому не отдавано, и великих государей указу о беглецах, которые бегают на Дон с Москвы из городов от всяких чинов людей в приказе нет». На подобную же челобитную 1687 г. был ответ: «по сему челобитью отказано, для того, что николи Донские казаки челобитчиком не отдаваны»[190]. Тщетны были заявления «Приказа холопья суда» и частных лиц! Ставший казаком не возвращался в рабство.
