Россия и Дон. История донского казачества 1549—1917.
Tekst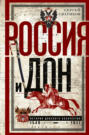


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 900 str. 5 ilustracji
- Kategoria: literatura historyczna
Что касается атамана, то выборность войсковых атаманов была поколеблена, а затем и уничтожена Петром I. Крюйс пишет, что еще Лукьян Максимов, в 1700 г., был «выбран вольными голосами, но утвержден» царем. Вернее, что Петр I, близко ознакомившийся с Доном во время Азовских походов, умел оказывать неофициальное воздействие на выборы атамана. Естественно, что атаманы, кандидаты царя, чувствовали себя более независимыми от круга.
Важное значение для конституционной истории Дона имело возрастающее влияние совета или собрание старшин. Оно увеличивалось вместе с ростом социально-экономического значения старшин. Самое учреждение – «собрание старшин» – было основано на обычае. На Украине можно найти ему параллель в той «тайной раде полковников», которую устраивал гетман прежде, чем устроить «явную раду всему войску». Уже в 1671 г. Родион Колуженин, видный старшина, советовал боярам в Москве провести его план постройки на Казачьем ерике и на Каланчинском протоке так, чтобы о нем знали лишь «войсковой атаман и лучшие старшины». Так и было сделано, но съезжий круг всего Войска отверг предложение старшин, атаман был «скинут», а Колуженину пришлось, отбиваясь ножом, бежать в Ратный городок под защиту воеводы князя Хованского. В 1695 г., при отправлении генерала Гордона в первый Азовский поход, Петр I писал: «а сей бы наш указ был у вас тайно и кроме тебя, войскового атамана, и старшин, кому надлежит, иным был не ведом…»[240]
Значение, которое имела к началу XVIII в. старшина, особенно ясно видно из грамоты 21 февраля 1706 г. Царь хвалил Войско за поведение во время астраханского бунта. Когда из Астрахани от восставших стрельцов присланы были «подсыльщики», «войсковой атаман Лукьян Максимов с знатною и с разумною старшиною и с прочими добрых сердец казаками… тех подсыльщиков оковав, и с прелестными письмами прислали к Москве, к великому государю…» «И они, войсковой атаман и знатная старшина, с доброго и усердно радетельного своего совету, во все донские верховые городки с низу послали итого-жь времени к станичным атаманом и казаком крепкие войсковые указы с нарочными носильщики, чтобы… отнюдь никто к тому злому делу не приставали…» Как мы видим, к 1705 г. «знатная старшина» уже почти вытесняет круг, на который зовет лишь «прочих добрых сердец казаков», то есть сторонников московской партии. Совет старшин, именем Войска, рассылает запреты по станицам[241]. Таким образом, значение старшин после 1671 г. выросло чрезвычайно. Как воспользовался своею властью старшина, обнаружилось во время Булавинского восстания. Итак, в начале XVIII в., власть собрания старшин уже успешно конкурирует с властью круга.
С усложнением социального строения Войска, с увеличением населения количество дел, восходящих на усмотрение Войска, возрастает. Часть дел подготовляется для круга в собрания старшин, другие же становятся предметом компетенции собрания старшин, особенно тяжбы гражданского характера, дела уголовные и т. п. К числу особенно важных дел относятся: раздача земель под поселение новых городков (выдача «заимных грамот») разбирательство споров между станицами из-за юртового довольствия (выдача «разводных грамот») и т. п. Дела эти решал круг, но голос старшин на круге приобретал все большее значение. Старшины, пользуясь своим влиянием, захватывают войсковые земли, заселяют их беглыми, присваивают себе значительную часть денежного жалованья и всячески угнетают рядовое казачество.
В военном отношении, в течение всего XVIII в., Войско оставалось самодовлеющим организмом. Царские грамоты определяли лишь число казаков, потребных для похода; до 1720-х гг. даже и этот контингент определялся, собственно, Войском. Последнее само определяло, какая станица сколько должна выставить бойцов. Так, в 1672 г., войсковой грамотой приказано было, чтобы казаки шли в Черкасской; из каждого городка по три части, оставляя четвертую часть для охраны городков. В 1705 г. Войско послало «из Черкасского донных казаков более 2000 чел. с атаманом с Максимом Фроловым, и с полковниками, которым приказано взять с собою в прибавку из верховых городков, которые до Паншина, от десяти по два человека, а за Панкиным по Дону, и по Хопру, и по Медведице велено итти изо всякого городка по половине…»[242].
Что касается подчинения казаков в военном отношении главной власти российского военачальника, то походное Войско, досланное по царскому указу на войну, с походным атаманом во главе, подчинялось власти главнокомандующего лишь в оперативном отношении. Вся военно-административная, военно-судебная, дисциплинарная, хозяйственная и интендантская часть оставалась в руках выборного походного атамана и выборных же полковых начальников. Только в 1703–1711 гг. Войско было подчинено, на случай войны, главному командованию азовского губернатора. До того же и после того казачьи отряды включались обычно в состав армии на определенном фронте или действовали самостоятельно, на правах отдельной армии, под начальством своего походного атамана, получавшего указание или от Войска, или от верховной власти.
В 1670-х гг. отправлялись неоднократно на Дон отряды царских войск, и довольно значительные, под начальством воевод, чтобы, совместно с казаками, вести войну с турками и татарами. Воеводам всегда предписывалось «советовать с войсковым атаманом и старшинами». В 1674 г. предписывалось воеводе князю Хованскому «с донскими атаманы и казаки обо всяких делах советовать и их к себе призывать, и мысль свою, что пристойно над неприятели к промыслу, им объявлять и у них, что покажется годно, принимать». Таким образом, до личного появления на Дону Петра отношения царских и донских военачальников носили, собственно, союзнический характер[243].
Что касается славного донского флота, то для него эпоха Петра оказалась роковой. В 1689 и 1690 гг. Войску пришлось просить у царя о присылке из Лебедяни и Воронежа лодок, ибо их флот очень пострадал, но присланные лодки оказались непригодными. Первая морская победа Петра (13 мая 1696 г., на Азовском море) была одержана им при помощи донского флота. Но, по-видимому, тот же Петр I, вслед за усмирением Булавинского восстания, приказал уничтожить донской флот и запретил строить на Дону струги. По крайней мере, с этого момента исчезают всякие известия о донском флоте, который, при всей его примитивности, имел в XVI и XVII вв. столь славную историю. (Петр I заводил уже на Азовском море свой флот, но прутское поражение 1711 г. повлекло за собою его уничтожение.) В период 1718–1730 гг. турецкий Азов и царские приазовские крепости (Транжамент, крепость Св. Анны) закрывали выход донцам в Азовское море.
В 1730 г. вспомнили о славном донском флоте, но приказами из Петербурга о постройке судов нельзя было уже восстановить то, что 30 лет назад было разрушено. Другая попытка возрождения флота на Дону и Азовском море была сделана в связи с началом войны в 1769 г., при Екатерине II, но это касалось более «азовской флотилии», нежели донского казачьего флота. Морской опыт и навыки донцов были бесплодно утеряны и для родного края, и для России[244].
В области духовного управления Петр I нанес донской независимости тяжкий удар. Москва, преследуя раскол, видела в нем не только религиозное, обрядовое инакомыслие, но и политически враждебную силу. В 1688 г. Москва потребовала на свой суд и расправу главнейших вождей старообрядческого движения на Дону, «раскольщиков», которые, защищая свободу веры, защищали единовременно и донскую независимость. Через 30 лет Петр взял Дон из-под власти патриарха и подчинил его митрополиту Воронежскому Пахомию. Указ 8 марта 1718 г. преследовал цели и политические, и полицейские. Петр указал: «церкви, монастыри и тех монастырей властей и монахов, от церквей священников и всех церковников по Дону и по другим рекам, которые были ведомы в патриаршей епархии, ради лучшего смотрения и близости, – ведать в Воронежской епархии для того: известно ему, Великому государю, учинилось, что в казачьих донских городках при церквах, монастырях и часовнях, во многих местах есть, укрывавшись от воровства, расстриженные и непосвященные старцы, которые чинят многие расколы и возмущение, а иные перешли к вору Некрасову на Кубань, и за дальностию от Москвы таковых смотреть и наказывать невозможно…»
Итак, главная цель реформы была – наказывать донских старообрядцев. Войско фактически более ста лет (до 1829 г.) не подчинялось этому указу и вело борьбу с воронежскими епископами. На первых порах оно стало хлопотать, чтобы Дон был зачислен в непосредственное подчинение Св. синоду, сменившему патриарха, но Петр I не пожелал сохранить за Доном этого признака его особости. Казачество по станицам и Войско в центре бойкотировали Воронеж.
Поэтому, по челобитной воронежского митрополита Пахомия, последовал 21 декабря 1720 г. (через Иностранную коллегию) указ, гласивший: «в духовных делах Войску Донскому быть у него, Митрополита, в ведении, и попов, от него свидетельствованных, и в их казачьи городки присылаемых, принимать, и без ведома от него, Митрополита, оных собою от приходов не отлучать, и от места к месту не переводить, и без его Митрополичья ведения и без данных от него, Митрополита, письменных свидетельств собою никаких попов и старцев отнюдь ни в которые города и места не принимать и не держать, чего надобно войсковому атаману самому смотреть и предостерегать…»[245]
Глава 14
Право убежища. Политическое движение на Дону. 1671–1708 гг
Одной из основ донской вольности было право убежища. Признанное Москвой это право позволяло Дону, в известной степени, играть по отношению к метрополии ту же роль, какую играли некоторое время Нидерланды по отношению к самодержавно-королевской Франции. В 1671 г. был нанесен удар праву политического убежища на Дону. В 1688 г. наступил конец религиозного убежища на Дону.
Потеря этого права тесно связана не только с событиями, происходившими на Москве, но и с социально-политическими процессами, имевшими место внутри самой колонии. Экономический кризис, приведший к разиновщине, продолжался. Приток эмигрантов по религиозно-политическим, экономическим и социальным причинам продолжал возрастать. Несмотря на кровопускание, устроенное Дону в 1671 г., социально-экономическая неурядица сказывалась и на политических настроениях казачества. Политическая мысль глухо и тяжело бродила.
Казачество было верно царю, как русскому общенациональному вождю. В 1676 г. на Дону близ Хопра, в раскольничьей «пустыньке», озлобленный – за преследование на Москве – на царя, «черный поп за великих государей Бога не молил и другим запрещал молить». Атаман и все Войско послали схватить попа и, привезя в Черкасской, по своему войсковому праву, сожгли его.
Однако оппозиционный дух силен был среди верховых казаков, раздраженных пребыванием на Дону царских войск. В 1675 г. воеводе Хованскому доносили, что во всех городках по станичным избам все казаки собираются на государевых людей (стоявших на Дону) и московских стрельцов хотят побить, а городовым стрельцам дать волю… «А если государь пришлет на Дон рать большую, то мы замиримся с Азовом, и поднимем Крым; старшин, которые с Разиным не были и государю доброхотствуют, побьем, чтоб они в Москву вестей не давали»… Старшины объяснили Хованскому, что это «некоторые пьяницы казаки в верхних городках начали волноваться», обнадеживали, что «у казаков в нижних городках никаких злых умыслов нет и не бывало, государю по присяге служат…».
Малороссия, неоднократно восстававшая против Москвы, знала о брожении, шедшем на Дону. Гетман Брюховецкий, отлагаясь в 1668 г. от Москвы, послал грамоту и на Дон. Он жаловался на «правоверных бояр» московских, совсем как кубанцы донцам жаловались в 1919 г. на особое совещание Деникина. «Жалуюсь, – писал он, – на них перед вами, братьями моими, и перед всем главным рыцарским войском, подавая к разсуждению сию вещь: праведно ли Москва сотворила, побратавшись с Ляхами»; «постановили… слобожан, захватив как скот, в Сибирь загнать, славное Запорожье и Дон разорить и вконец истребить…».
«…Мы великому государю добровольно без всякого насилия поддались потому только, что он царь православный; а московские царики, бояре безбожные, усоветовали присвоить себе нас в вечную кабалу и неволю, но всемогущая Божия десница, уповаю, освободит нас… Вы, братья моя милая, привыкли при славе, победе, и вольности пребывать; порадейте, Господа, о золотой вольности… и не прельщайтесь обманчивым московским жалованьем. Остерегаю вас: как только нас усмирят, станут промышлять об искоренении Дона и Запорожья… Не прельщайтесь их несчастною казною, но будьте в братском единомыслии с господином Стенькою, как мы находимся в союзе с Заднепровскою братьею нашею…»
Надо отдать справедливость политической дальновидности Брюховецкого. Москва шла по пути объединения при помощи централизации, подавления автономии и политической свободы. Дон не поддержал Украины и лишь в слабой степени пошел за «господином Стенькою».
Один из товарищей Разина, «прежних воров Стенкина собрание Разина казак Миусской», возвратившийся в 1678 г. на Донец с «воровским собранием» человек в двести, попытался выдвинуть против Алексея Михайловича его якобы «сына», «царевича Симеона Алексеевича». Дон не пошел за этим наскоро состряпанным самозванцем, но кошевой атаман Запорожский Серко принял «Симеона» сердечнее и «писал на Дон к черни, чтобы на Дону всех старшин вырубили и к нему приклонились» для совместного похода на Москву. Интересно, что Серко знал уже о розни, возникшей на Дону между «чернью» и «старшинами», и хотел ее использовать. Но Дон не поддержал Серка, и Симеона пришлось с Запорожья послать к «родителю», который его и четвертовал[246].
Москва требовала у Дона выдачи себе на расправу своих политических врагов. Такими были в 1671–1673 гг. разинцы, пытавшиеся укрыться на Дону. Такими оказались старообрядцы, дерзавшие, вопреки указу, молиться по-своему, даже и те, которые еще не превратили свой религиозный протест в протест политический. Таким врагом Москвы оказался и казак Беляевской станицы Семен («Сенька») Буянка. Он отбил силою у боярского сына Клокова арестованных им на донской территории раскольников (1675). Буянка защищал землю «казачьево присуду» от незаконного вторжения царского чиновника, защищал религиозных эмигрантов, искавших убежища в вольной колонии. Он был добрым гражданином Донской республики, но для Москвы это был «вор», и выдачи его требовали весьма упорно.
Посылая стольника Арсеньева на Дон[247], давали ему наказ хвалить казаков за выдачу Разина, что та «верная и радетельная служба, что они такова вора пойман прислали, не токмо в Московском государстве прославилась», «говорить казакам не по один день прилежно и радетельно великих государей указом и своими ласковыми разговоры»…
Но когда было нужно, начинали говорить с Доном и грозно. Нарушивши однажды принцип невыдачи, казаки могли «по своему войсковому праву» казнить лишь второстепенных персонажей, а «главных заводчиков» приходилось отсылать в Москву. В 1703 г. было предписано государственных преступников и доносчиков на них («сказавших государево слово и дело») высылать в Преображенский приказ. 28 марта 1720 г. было подтверждено: «кто из донских казаков будут сказывать за собою государево слово и дело, таковых присылать к розыскам, как о том от Коллегии иностранных дел… указ повелевает»[248].
Влияние Москвы на донские дела возрастало, политический гнет усиливался, и казачество легко верило слухам. Тем более что и на Москве было неспокойно. В 1683 г. прошел слух, что донские казаки, которые были на Москве, в легких станицах все перевешаны, а иные без вести пропали, а зимовую станицу не отпускают. В том же году раскольничий старец говорил, что царя Иоанна «на Москве бояря не почитают, извести хотят…». Казаки говорили, чтоб им «собрався итти в Русь, к Москве»… Таким образом, дело шло о защите царя от бояр. Царь этот считался защитником старой веры.
С другой стороны, бежавшие на Дон и находившие здесь радушный приют раскольники составляли на Дону элемент крайней оппозиции Москве. Жестокие преследования старообрядцев делали из них мучеников за веру. Очень многие казаки сочувствовали старшине Чюрносову, который «на царскую грамоту о разорении раскольных пристанищ на Дону» говорил: «разорять их не для чего», потому что посланец из Войска, расследовавший дело, «никакого воровства и расколу про них не сыскал, кроме того, что они в тех пустынях Богу молятся…». Казаки, даже и не раскольники, не могли проникнуться тем рвением к исправленному обряду, которое воздвигало на Москве костры для сожжения инаковерующих.
В речах раскольников на Дону были ссылки на Библию, на Гедеона, который с тремястами триста тысяч мадианитян победил. Начинались разговоры о походе на Москву, на бояр, Петр Мурзенок заявил: «лучше-де быть на каторге, нежели на Москве». Чюрносов грозился: «так-де учиню, что задрожит от меня и Москва вся…» Поп Самойло и Чюрносов посылали «письма свои на Еик, и на Терек, чтоб не слушали ни царей, ни патриархов, но крепко держались за веру старую. Аще-ли будет на нас какой опал с Москвы, вы к нам тогда придите… станут-де за нас и многие орды и калмыки…». Таким образом, раскольничья партия ставила вопрос о союзе вольных колоний Дона, Яика и Терека против метрополии.
Чюрносов хвалился: «не покинет-де меня и Чаган-Батырь, и Нагай Мурза, как пойду на Московское царство, и замучю-де всеми»… «Куды-де нам итти на Крымского; надобно-де тут первое очистить; лучше-де ныне Крымской, нежели наши цари на Москве»… Чюрносов ставил вопрос о необходимости военного союза с калмыками против Москвы[249].
На Дону, под влиянием раскольников, перестали «в войсковой беседе про государское здравие заздравные чаши пить, о государском здравии древние обычаи отставили[250] три года на церковной службе не поминали государей, и духовенство, и русское воинство»…
На Дону шла ожесточенная борьба партии независимости, защиты республиканских вольностей, «раскольничьей», – и московской партии. К первой принадлежали верховые казаки, голытьба, прибежавшие на Дон старообрядцы. Ко второй – значительная часть низовых казаков и старшины. Казак Ян Грек, строчивший доносы в Посольский приказ князю В.В. Голицыну, писал: «те, которые суть противники апостольские церкви, не есть раби великих государей…»
Московская партия была терроризована. Большинство было против нее – за свободу веры, за народоправство. Побеждало даже течение в пользу отделения от Руси и в политическом, и в военном, и в религиозном отношении. Но за московской партией была идея единства общенационального, религиозного, и – кроме того – мощная поддержка московского правительства. Последнее с интересом наблюдало за развитием событий.
Подчиненные агенты московской власти не смели вмешиваться в донские дела. Московская партия подстрекала воронежского воеводу «управиться с раскольниками» в верховых городках, по соседству, но тот заявил, что над раскольниками на р. Медведице «изгоном промыслу и посылки учинить не мочно, чтоб не возмутить всем Доном от того дела…». Пограничный воевода помнил об автономии Дона.
В 1687 г. Москва, молчаливо ждавшая «оказательства», внезапно и резко потребовала у Дона выдачи раскольничьих вождей. В списке значилось и имя бывшего войскового атамана Самойлы Лаврентьева.
Лаврентьеву ставили в вину не только покровительство старообрядцам, но и то, что при нем был принят на Дон раскольничий проповедник Самойло Ларионов, который стал служить по «старым» книгам, не поминая на великом выходе ни патриарха, ни великих государей. Это было сделано по совету со старшинами из раскольников. Затем, на Пасхальной неделе, Лаврентьев созвал круг, который должен был подтвердить и подтвердил это решение. Московская партия была бессильна, и осмелившиеся выступить за государей «добрые казаки» Василий Инжиров, Фома Голодный и поп Василий едва не были убиты. Тот же круг запретил называть старообрядцев «раскольниками», после чего поп Самойло открыто проповедовал в станичной избе, на майдане и, наконец, по казачьим куреням. Он называл царя Алексея Михайловича орлом, а детей его орлятами, «и что их великих государей один меч пояст вскоре», другим же говорил: «вот-де бывшей царь Алексей быв орел, и се до его подкрылки; один-де уже ищез, а сии вскоре от меча пропадут…»
Другой проповедник, Кузьма Косой, заявлял: «нам-де Христос велит землю очищать: мы не боимся ни царей, ни всей вселенной»… Наиболее ярким выразителем недовольства был Чюрносов, порицавший Алексея Михайловича за борьбу со старообрядчеством, «будто по его государскому рассмотрению чинилось не умно, но яростно, со многим рвением к кроворазлиянию за веру»… Царей он называл «иродами», а «государскую силу Голиафской»… Чрезвычайно интересно, что донские республиканцы, подобно солдатам Кромвеля, искали в Библии обоснование своих политических взглядов.
Вернувшемуся из похода Фролу Минаеву удалось настоять на круге на выдаче в Москву Кузьмы Косого, который призывал казаков идти на Москву. Самойле Лаврентьеву пришлось «покиня атаманство ухорониться». Победа московской партии была не полная. В Москву, во главе зимовой станицы послан был Кирей Чюрносов, вождь раскольников, заявлявший: «не хочет-де нам патриарх жалованья и хлеба прислать, а я-де так помекаю, и не хочет – пришлет, были-б де зубы, я-де знаю и сам, где-то брать…» Самое жалованье он не желал признавать царской милостью: «то-де с миру взято, – говорил он, – в жалованье почитать не для чего»… Он демонстративно отказывался в «государства ангелы», в войсковой беседе про «государское здравие заздравных чаш пить…».
На царскую грамоту о выдаче Лаврентьева семь верховых городков откликнулись, запрещая выдавать атамана, «для того, что наперед-де сего никогда их братию с Дона не выдавали»… Семь городков, в общей грамоте на имя Войска, напоминали об убийстве Карамышева, не имевшем последствий; «да и ныне-де… они и без государского жалованья прокормить себя сумеют»… Едучи в станице в Москву Чюрносов открыто готовил по пути на север силы, которые должны были идти на Москву, – как только вернется он из поездки.
Одну грамоту о высылке Лаврентьева не исполнили, по другой – послали попа Самойлу. По получении третьей состоялось 5 бесплодных кругов, причем Фрол Минаев, опасаясь за свою жизнь, сдал атаманство и ушел из круга. Потом его уговорили принять вновь атаманство, но на царскую грамоту ответить отпиской, что «атаман Самойла, по розыску Войска, расколу не причастен и, притом, болен, и потому не отправлен в Москву».
Члены московской партии, соблюдая чрезвычайную конспирацию, решили послать в Москву донос на Чюрносова, умоляя не отпускать его на Дон, ибо по возвращении его на Дону вспыхнет такой же мятеж, какой был при Разине.
5 марта 1688 г. атаман зимовой станицы Чюрносов был схвачен, вместе с «товарищи»: есаулом Ив. Рабыциным, Петром Смиренным Рыковским, Федотом Морозом Чирским и др.
7 апреля прибыл на Дон толмач Никитин, предъявивший требование о выдаче Лаврентьева. Казак-«новоприходец» стал стращать казаков на круге, что, если отдать теперь Самойлу, то когда съедутся из верхних городков казаки, «посыльщикам будет столько добра, что ничье имя не помянется»… Такая угроза ободрила раскольников, и они стали приговаривать, чтобы остановить указ великих государей. Фрол Минаев и другие члены московской партии, чувствуя, что опасность грозит их жизни, бросились – Фрол с насекою, а остальные с дубьем и обушками – и, избив «новоприходца» до смерти, выкинули его тело с круга[251]. После этого раскольники дрогнули, а круг, а затем и собравшийся через 3 дня съезд всего Войска постановили выдать Лаврентьева и его товарищей.
10 мая 1688 г. на Красной площади и на Болотной, под топором палача, упали головы десятка казаков – Чюрносова и других вождей «раскольничьей» партии. В их числе казнен был и бывший войсковой атаман Войска Донского Лаврентьев. Не Дон казнил «отпадчиков» по своему «войсковому жестокому праву», а московский палач. Яицкое войско, не выдавая в том же году своих попов-раскольников, заявляло: «буде по розыску объявятца у нас какие расколыщики и мы укрывать их не станем, по войсковому своему суду станем смертную казнь (им) чинить»… На Дону же не заикнулись о своем «войсковом суде». Выдача Лаврентьева была предрешена финансово-экономической зависимостью от Москвы: «всем войском (в кругу) закричали: зачем-де нам его, Самойла, с его единомысленники не отдать? Но не помереть бы нам голодною смертью для их»…[252]
1688 г. предрешил на Дону судьбу свободы веры. В 1689 г. пришлось Войску организовать экспедицию для разгрома раскольничьего городка. 14 августа 1688 г. ему повелено было «итти с Чаган-Батырь-тайшею на р. Медведицу и над городком, в котором сидят, собрався с Донских городков, воры и раскольщики» и их «единомысленники», чинить «промысл»… Городок был разгромлен, вожди раскольников – чернецы Досифей, Феодосий и Пафнутий ушли на Куму. Пойманы были: атаман Иван Заец, Семен Колодин, Семен Попилин, Семен Распопин. «За поруки» были оставлены Илья Зерщиков, Иван Терской, Лев Епифановской[253].
Пять лет спустя казак-раскольник Саратовец объяснял крымскому хану, у которого искал убежища: «А как нам на Дону жить? Старую веру ныне выводят, а держат новую веру и крестное сложение не так, как прежде бывало, и для той новой веры с Дону у нас к Москве забрали людей добрых и заслуженных, Кирея Матьеева с товарыщи и показнили неведомо за что, и нам на Дону поэтому жить нельзя…»[254] Таково же было мнение и многих оставшихся на Дону казаков.
Громадное влияние оказало дело раскольников 1688 г. и на внутреннюю борьбу партии. Старшины подняли голову и, опираясь на поддержку Москвы, стали управлять Доном по-своему. Но внешнее спокойствие, воцарившееся на Дону, не означало того, что казачество примирилось с ограничением своей политической свободы и независимости.
То, что происходило на Дону, в 1688–1708 гг. было несомненной прелюдией к восстанию Булавина. В стрелецких бунтах конца XVII – начала XVIII в. возлагали надежду на революционность и свободолюбие Дона. Цыклер, участник и организатор заговора против Петра в 1697 г., предполагал: «как буду на Дону у городового дела в Таганроге, то, оставя ту службу, с Донскими казаками пойду к Москве для ее разорения и буду делать тоже, что и Стенька Разин…» Казак П. Лукьянов из донской зимовой станицы 1697 г. грозился: «дай нам сроку, поворотимся мы (на Дон), как государь пойдет (за границу) и учиним по-своему. Полно, что и преж сего вы нам мешали, как Стенька был Разин, а ныне мешать некому…» Тот же П. Лукьянов говорил: «как вы, стрельцы, пойдете с Москвы на службу (в Азов), и в то число наши казаки зашевелятся», и пояснял, что революционным элементом на Дону являются «голые казаки верхних городков…». Лукьянов повторил и ту мысль, что и раскольники 10 лет назад: «казаки отпишут для помощи Турецкому султану о помощи для московского разоренья, и он пришлет к ним в помощь кубанцев (татар), так они великое разоренье учинят…» 4 марта 1697 г., на Красной площади, вместе с Цыклером и 4 его сообщниками, был казнен и Лукьянов[255].
В 1698 г. московские стрельцы, отбывшие два года на тяжелой службе в Азове и посланные, вместо Москвы, прямо в Великие Луки, возмутившись в походе, требовали: «немцев побить, бояр, идти к Москве, и к донским казакам ведомость послать…» Донцы в Черкасском, узнавши о казни стрельцов, говорили писарю из Воронежа: «Знать и ты – потешный! Дай только нам сроку, перерубим мы и самих вас, как вы стрельцов перерубили…»[256]
Тогда шли повсюду слухи, что Петр I не вернется из-за границы, и казаки говорили: «Если великий государь к заговенам к Москве не будет, то нечего государя и ждать! А боярам мы не будем служить и царством им не владеть, и атаман нас не одержит, и Москву нам очищать – воевод будем рубить…» Таким образом, казаки, признавая национальное верховенство царя, не признавали и в идее боярского правления на Руси.
В 1701 г. на Дону шли разговоры: «Азову за государем недолго быть; Донские казаки, взяв его, передадутся к Турскому султану по-прежнему» (?!)… Другие говорили: «теперь нам на Дону от государя тесно становится; как будет к нам на Дон, – мы приберем его в руки…» Для нас интересно это заявление, что на Дону от Петра «тесно становилось…». По этому делу были затребованы с Дону в Преображенский приказ казаки: городка Тишанки – Андрей Поминов с матерью да Левка Сметанин; городка Нижнего Чиру – Игнат Пчелинец. При розыске оказалось, что Сметанин, со слов раскольничьего пустынника Авноха, поселившегося на р. Белой Калитве, говорил, что «царь Иван Алексеевич жив, и живет в Иерусалиме для того, что бояре воруют. Царь Петр полюбил бояр, а царь Иван чернь полюбил»[257]. И в этих слухах сказалась старая вера в крестьянского и казачьего, «справедливого» царя и старая же ненависть к «лихим боярам…».
В 1705 г. в Астрахани вспыхнуло восстание посланных туда из Москвы на службу стрельцов. Зачинщики восстания, еще до отъезда на Низ, на совещании в Коломне, говорили, что хорошо бы «если в Астрахани людей смутить, и Дон, и Яик потянут с вами же… малые люди того же желают и ради вам будут, можно старую веру утвердить…».
В грамотах к Войску Донскому восставшие заявляли, что восстали за старую веру, против немецкого платья, табаку, брадобрития и непосильных податей. Грамота уверяла, будто бы «воеводы, начальные люди заставливали» астраханцев «кланяться болванным кумирским богам». Кумирские боги эти были на самом деле «столярной работы личины деревянные, на которых у иноземцев и у русских начальных людей кладутся накладные волосы для бережения, чтоб не мялись…». Обращение астраханцев имело кратковременный успех у терских и гребенских казаков, но не на Дону. Помимо того, что «прелестные письма» попали к старшинам на Низ, а не к верховой голытьбе, некоторую роль сыграло и то, что воронежский губернатор Апраксин двинул на Дон войска, а перед ними казацкие слободские полки, не очень расположенные к донцам. «О походе своем» Апраксин написал к донцам «и пустил эха, чтоб их привести тем в размышление…».
В результате «размышления» донцы к бунту не пристали. В сентябре 1705 г. атаман легкой станицы Кочетов объяснял это боярам следующим образом: «Итем-де они, донские казаки, пред иными народами от него, великого государя, пожалованы и взысканы, что к ним и по се число о бородах и о платье… указу не прислано, и платье-де они ныне носят по древнему своему обычаю, как кому из них которое понравится: иные-де любят носить платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а иные обвыкли ходить в русском стародревнего обычая в платье, и что-де кому лучше похочитца, тот тако и творить, и в том же между ими, казаками, распри и никакого посмехания друг над другом нет; а немецкого-де платья никто из них, казаков, у них на Дону не носит… и охоты-де у них, кроме изволения государского, к тому немецкому платью нет…» Кочетов оговаривался, что в случае повеления, «и они-де его воли государской противны не будут…»[258]. Но, понятно, что Петр I не особенно стремился поднять Дон, посягая на внешние отличия местной жизни. Он послал на Дон громадное «жалованье» и клейноды, но не забыл потребовать, чтобы среди «пущих завотчиков» отнюдь не позабыли донского казака Елисея Зиновьева, которого астраханцы выбрали у себя в атаманы. Зиновьев был колесован в Москве[259].
