Божье воинство. Новая история Крестовых походов
Tekst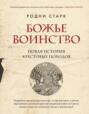


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 320 str. 18 ilustracji
- Kategoria: historia średniowiecza, literatura historyczna
Отвоевание Италии и Сицилии
Быть может, самой примечательной чертой исламских территорий был почти нескончаемый внутренний конфликт: сложные заговоры, предательства, убийства сменяли друг друга в кровавой мыльной опере. Северную Африку постоянно раздирали мятежи, внутренние исламские войны и завоевания. Испания превратилась в лоскутное одеяло из враждующих мусульманских режимов, часто заключавших союзы с христианами друг против друга. Вспомним, что именно мусульманский правитель Барселоны пригласил в Испанию Карла Великого, а Сид провел часть своей славной карьеры как блистательный командир-наемник на службе у мусульманского «короля» Сарагосы, воюя против других мусульман. Отсутствие единства среди мусульман сделало Испанию уязвимой для христианской реконкисты. Аналогичной была ситуация в Италии и Сицилии.
В 873 году византийский император Василий I, убив своего соправителя и изгнав мусульман со всего Далматинского побережья (напротив Италии), решил вывести и Южную Италию из-под мусульманского владычества [119]. Он высадил свои войска на «каблуке» Апеннинского полуострова и вскоре принял капитуляцию города Отранто. Три года спустя под его контроль перешел Бари, а в течение следующего десятилетия «почти во всей Южной Италии была восстановлена власть Византии» [120].
Однако Италия не стала мирной провинцией. Время от времени здесь повторялись мятежи и заговоры, возникали новые режимы; все это – в дополнение к постоянным интригам и переворотам в самом Константинополе. Однако византийское правление преобладало, а в 1038 году, решив покончить с мусульманскими пиратами и налетчиками, базирующимися в сицилийских портах, итальянские византийцы начали свое вторжение на Сицилию, переправившись через узкий Мессинский пролив. Время они выбрали самое подходящее: между арабскими эмирами на Сицилии как раз началась очередная междоусобная война. В сущности, аль-Акхал, мусульманский правитель Палермо, прислал в 1035 году посла в Константинополь с просьбой к Византии помочь ему против его врагов. Император согласился прислать ему подкрепление, но тут аль-Акхала убили, «так что исчез прекрасный предлог для высадки на остров» [121]. Впрочем, междоусобная война между сицилийскими арабами только разгоралась, и ясно было, что они не смогут оказать византийцам серьезного сопротивления.
Так что в 1038 году Георгий Маниак, самый известный византийский полководец того времени, переправил свою разношерстную армию через Мессинский пролив. Маниак, хоть и носил греческое имя, возможно, по происхождению был монголом[122]: «Настоящий медведь: мощный, безобразный, пугающего вида… в столице весьма ценили его военное дарование, однако ему, человеку прямому и откровенному, трудно было выживать там, где более всего ценились дворцовые интриги и коварство» [123]. Его войска состояли из лангобардов, завербованных в армию насильно, нескольких регулярных византийских частей и разнообразных наемничьих отрядов: среди них отряд норманнских рыцарей, выделявшихся как необычной политической сознательностью и амбициями, так и ростом и статью; по происхождению они были скандинавами. (Само слово «норманн» происходит от старонорвежского Northmathr – «норвежец».)
Вторжение началось в конце лета и имело немедленный успех. Мессина пала почти сразу. Затем захватчики выиграли крупные сражения при Рометте и Троине, «и в течение двух лет им подчинились более дюжины крупных крепостей на востоке острова, а также город Сиракузы» [124]. Но дальше все рассыпалось. Для начала Маниак лишил норманнов их доли добычи, и они, «разозленные, обиженные и опасные» [125], вернулись в Италию, оставив византийское войско без его самого эффективного отряда. К тому же между Маниаком и командиром флота, зятем императора Стефаном, бездарным полководцем, но человеком с большими амбициями, разгорелась вражда. Когда Стефан по глупости позволил мусульманскому флоту ускользнуть из византийского окружения, Маниак совершил ошибку: в гневе ударил его и обозвал изнеженным сутенером [126]. В отместку Стефан отправил императору донос, в котором обвинил Маниака в измене. Маниак был отозван в Константинополь и брошен в темницу, а командование сицилийской операцией передано Стефану; тот привел все в беспорядок, а затем умер. Его заменил придворный евнух по имени Василий, «оказавшийся ничем не лучше» [127]. Византийская армия начала медленно отступать. В этот момент в Апулии, самой южной провинции на «каблуке» Италии, взбунтовались лонгобарды. Армию поспешно отозвали туда подавлять мятеж, а Сицилия вновь оказалась полностью в руках мусульман.
Для норманнских наемников все это приключение оказалось весьма познавательным. Прежде всего они узнали, что Сицилия очень богата; затем – что там есть обширное христианское население, готовое поддержать вторжение извне, а мусульмане безнадежно разделены. Кроме того, они обнаружили, что Константинополь слишком далеко и слишком погряз в интригах, чтобы эффективно поддерживать свою власть на Западе. Так что вместо того, чтобы подавлять лонгобардское восстание за плату, норманны решили его возглавить. В 1041 году норманнские рыцари незаметно перешли через горы и спустились в Апулию.
Норманнов возглавлял Вильгельм Отвиль, героическими деяниями на Сицилии заслуживший прозвище «Железная Рука». Норманны быстро захватили город Мелфи, удобно расположенный в холмах и хорошо укрепленный, и сделали его своей базой. Оттуда в течение нескольких недель они подчинили себе все окрестные города, успешно представив себя сторонниками мятежа. Византийский правитель был слишком опытен, чтобы сидеть сложа руки и позволить норманнам и мятежникам захватывать новые территории. Собрав армию значительно большую, чем у его противников, он встретился с ними на реке Оливенто. Здесь он отправил в норманнский лагерь герольда, предложив норманнам на выбор беспрепятственно уйти на лангобардскую территорию – или драться. Историки согласны в рассказе о том, каков был ответ: огромный норманнский рыцарь, державший под уздцы коня герольда, в гневе так стукнул его по голове бронированным кулаком, что конь рухнул замертво [128]. Герольду дали другого коня и отослали обратно в византийский лагерь, а на следующий день состоялась битва.
Хоть византийцы и значительно превосходили своих противников числом, норманны одержали победу: большинство византийцев были убиты в бою или утонули, пытаясь переправиться через реку. В ответ византийский правитель вызвал из Константинополя многочисленное подкрепление и сошелся с норманнами и их союзниками-лангобардами у Монтемаджоре. Норманны, снова под командованием Вильгельма «Железной Руки», истребили и эту новую византийскую армию. Но и тогда византийцы не признали поражение: они собрали новую армию и дали врагу сражение при Монтепелозо. И снова «Железная Рука» и его норманны вышли победителями: они даже взяли в плен самого византийского правителя и отпустили его лишь в обмен на выкуп. Больше византийцы с норманнами в Италии не встречались в открытом бою: вместо этого они отсиживались в укрепленных городах и крепостях. Таким способом им удалось избежать дальнейших военных катастроф, однако и Южную Италию они потеряли; постепенно она превратилась в норманнское королевство.
Тем временем норманны не утратили интерес и к мусульманской Сицилии. В 1059 году, после того как Роберт Гвискар, герцог Южной Италии, в письме к папе Николаю II назвал себя «будущим [повелителем] Сицилии», норманнские планы начали принимать определенную форму. Гвискар был человек выдающийся. Византийская царевна Анна Комнина говорит о нем как о «доблестном», «властолюбивом характере» и «мерзкой душе». Далее она пишет: «Он был большого роста – выше самых высоких людей; у него была розовая кожа, белокурые волосы, широкие плечи», однако «отличался изяществом» [129].
В 1061 году Гвискар, его брат Рожер и с ними избранные норманны ночью высадились в Мессине, а утром обнаружили, что город покинут. Гвискар немедленно укрепил город, а затем заключил союз с Ибн ат-Тиннахом, одним из враждующих сицилийских эмиров, и захватил большую часть Сицилии, после чего вернулся в Италию, чтобы не оставлять тамошние дела без присмотра. В дальнейшем его действия по расширению контроля над Сицилией были незначительны; основное внимание он уделял взятию оставшихся византийских крепостей в Южной Италии и наконец в 1071 году окончательно выдавил из Италии греков. На следующий год он вернулся на Сицилию, захватил Палермо и скоро уже владел всем островом. В 1098 году старший сын Роберта Гвискара, Боэмунд, возглавлял силы крестоносцев, взявших город Антиохию, и стал правителем Антиохийского княжества. Затем в 1130 году племянник Гвискара Рожер II основал норманнское Сицилийское королевство (включавшее в себя и Южную Италию) [130]. Оно просуществовало всего около века, но с мусульманским правлением в этих краях было покончено.
Контроль над морем
В 1920-х годах бельгийский историк Анри Пиренн (1862–1935) прославился на весь мир, заявив, что «Темные века» сгустились над Европой не из-за падения Рима или вторжения северных «варваров», но из-за того, что вследствие контроля мусульман над Средиземным морем Европа оказалась в изоляции. «Прежде, – писал он, – Средиземное море было практически озером Рима – теперь же стало мусульманским озером» [131], а Европа, отрезанная от торговли с Востоком, превратилась в скопище деревенских хозяйств.
В поддержку своего мнения Пиренн приводил фрагментарные свидетельства того, что в конце VII века морская торговля резко снизилась и оставалась ничтожной вплоть до начала Х века. Много лет тезис Пиренна пользовался большим влиянием, однако со временем утратил правдоподобие: исследователи убедительно показали, что снижение объема торговли, на котором основывал свою теорию Пиренн, сильно преувеличено. Возможно, в первые пятьдесят лет мусульманской экспансии морская торговля с Востоком иногда прерывалась; однако свидетельства показывают, что чрезвычайно активная средиземноморская торговля скоро была восстановлена, в том числе между Европой и исламскими странами [132].
Странно, что историки не обратили особого внимания на самое фундаментальное и легко проверяемое из предположений Пиренна: о контроле мусульман над Средиземным морем [133]. Трудно понять, как Пиренн пришел к такому мнению. Возможно, просто поверил Ибн Хальдуну (1332–1406), который писал: «Мусульмане получили контроль над всем Средиземным морем. Сила и господство их были неоспоримы. Нигде в Средиземноморье христианские государства ничего не могли сделать наперекор мусульманским флотилиям. Волны морей несли мусульман к новым победам» [134]. На самом же деле, хотя обладание некоторыми стратегически расположенными базами на островах и давало мусульманам определенное преимущество, полной властью над морем они никогда не пользовались.
Верно, что вскоре после завоевания Египта мусульмане обзавелись мощным военным флотом и в 655 году нанесли поражение византийскому флоту у берегов Анатолии. Но всего двадцать лет спустя византийцы уничтожили огромную мусульманскую флотилию греческим огнем, а в 717-м сделали это снова. Затем, в 747 году, «огромная арабская армада, состоявшая из тысячи доненов [галер], являющая собой цвет сирийских и египетских морских сил», встретилась с намного меньшим византийским флотом близ Кипра – и лишь три арабских судна пережили эту встречу [135]. Мусульмане так и не смогли полностью восстановить свои морские силы, отчасти потому, что страдали от хронического недостатка «корабельного дерева, смолы и железа» – у византийцев же всего этого было в избытке [136]. Таким образом, Средиземное море вовсе не превратилось в исламское озеро: правда в том, что скорее уж Восточное Средиземноморье стало озером Византии, поскольку византийский флот, «самый эффективный и хорошо обученный, какой только видел мир, постоянно патрулировал берега, следил за порядком в открытом море и нападал на пиратские суда сарацин везде, где их встречал» [137]. Верно, что в VIII–IX веках мусульмане были в силах заниматься вторжениями с моря на земли западного Средиземноморья, вдали от византийских морских баз, однако уже к Х веку западные флоты, как и флоты обновленной Византии, теснили мусульман.
Слабость мусульман на море, по-видимому, всегда была очевидна. Для начала мусульмане быстро поняли, что не должны держать свой флот в открытых гаванях, где он подвергается опасности быть разрушенным в ходе внезапной атаки. Например, когда был покинут Карфаген, стоявший там флот переведен в Тунис, в глубину страны, куда был прорыт от берега специальный канал для соединения с морем. Очень узкий – между его берегами не умещалось больше одной галеры – этот канал представлял собой хорошую защиту от любого вражеского флота [138]. Схожим образом и египетский флот был убран из Александрии и перемещен вверх по течению Нила. Это были вполне разумные шаги, однако они демонстрировали слабость.
То, что контроля над морями мусульманам недоставало, очевидно и из того, что византийцы с легкостью безнаказанно перевозили по морю свои войска – например, доставляли и высаживали на берег целые армии, чтобы изгнать мусульман из Южной Италии. Не могли мусульмане помешать и чрезвычайно активной морской торговле итальянских городов-государств, таких как Генуя, Пиза и Венеция [139]. Еще в XI веке, задолго до Первого крестового похода, итальянские флотилии не только нападали на мусульманские корабли, но и неоднократно и успешно разоряли мусульманские морские базы на северном берегу Африки [140]. А во время крестовых походов итальянские, английские, франкские, даже норвежские флотилии с легкостью путешествовали в Святую Землю и обратно, перевозя на себе тысячи крестоносцев и все необходимые припасы. Наконец, как мы покажем в следующей главе, утверждение Пиренна, что мусульмане, преградив путь морской торговле, вызвали этим наступление «Темных веков», неверно, поскольку «Темных веков» попросту не было!
Заключение
Все эти победы христиан произошли до Первого крестового похода. Следовательно, западноевропейские рыцари, которые добирались сушей или морем в Святую Землю, уже довольно много знали о своих противниках-мусульманах. И прежде всего – знали, что их можно победить.
Глава третья
Западное «невежество» и восточная «культура»

Несмотря на частые утверждения обратного, мусульманская техника сильно отставала от западной. Рыцари на рисунке вооружены арбалетами, стрелявшими куда точнее и смертоноснее, чем мусульманские луки. Мусульманским стрелам редко удавалось пробить кольчуги, которые носило большинство крестоносцев (в том числе изображенные на рисунке), но лишь немногие мусульмане
Давно общеизвестно, что, пока Европа спала тяжелым сном «Темных веков», на исламском Востоке процветали наука и образование. Как пишет в своем недавнем исследовании известный автор Бернард Льюис, ислам «достиг высочайшего на тот момент уровня в естественных науках и искусстве… [интеллектуально] средневековая Европа была ученицей исламского мира и в определенном смысле зависела от него» [141]. Но затем, продолжает Льюис, европейцы вдруг начали развиваться «огромными скачками, оставив научное, техническое, а со временем и культурное наследие исламского мира далеко позади» [142]. Отсюда вопрос, вынесенный Льюисом в заглавие книги: «Что пошло не так?»
В этой главе вы найдете ответ на вопрос Льюиса: все шло как надо. Убеждение, что когда-то мусульманская культура была выше европейской – в лучшем случае иллюзия.
Культура Дхимми
В той степени, в какой арабская элита была способна усвоить утонченную культуру, она усваивала ее от покоренных народов. Как пишет Бернард Льюис (по-видимому, не вполне осознавая следствия из этого), арабы унаследовали «знание и навыки древнего Ближнего Востока, Греции, Персии и Индии» [143]. Иначе говоря, высокоразвитая культура, которую так часто приписывают мусульманам (обычно называя ее «арабской»), была в сущности культурой завоеванных народов: иудео-христианско-греческой культурой Византии, примечательной ученостью христианских еретических сообществ, таких как копты и несториане, обширными знаниями зороастрийской (маздеистской) Персии и величайшими математическими достижениями индусов (вспомним ранние и обширные исламские завоевания в Индии). Это ученое наследие, прежде всего греческая его часть, было переведено на арабский, и отдельные его части вошли в арабскую культуру, однако даже в переводах эту «ученость» хранили и воспроизводили в первую очередь дхимми, живущие под арабской властью. Например, «древнейшей научной книгой на языке ислама» стал «медицинский трактат, принадлежащий сирийскому христианскому священнику из Александрии, переведенный на арабский персидским врачом-евреем» [144]. Как видно из этого примера, большая часть «арабской» науки не только происходила от дхимми; те же дхимми брали на себя труды по ее переводу на арабский [145]. Но это еще не делало эти знания частью арабской культуры. Скорее, как отмечает Маршалл Ходжсон, «те, кто изучал естественные науки, по-видимому, склонны были сохранять верность своим прежним религиям, даже если писали свои работы по-арабски» [146]. Если так, понятно, почему по мере постепенной ассимиляции дхимми большая часть пресловутой высокоразвитой арабской культуры растворилась без следа.
Хороший пример этого (пусть и не относящийся к интеллектуальной культуре) – исламское мореходство. Проблемы, связанные со способностью Византии нападать с моря, заставили древних арабов задуматься о собственном флоте. В дальнейшем исламские флотилии нередко хорошо себя проявляли в морских боях с византийскими и западными – казалось бы, вот оно, свидетельство в пользу высокоразвитой исламской культуры! Но, приглядевшись внимательнее, мы обнаруживаем, что флотилии были вовсе не «мусульманские».
Арабы, обитатели пустынь, ничего не понимали в кораблестроении; они обратились на новоприобретенные и по-прежнему работающие корабельные верфи Египта [147] и портовых городов побережья Сирии (Тира, Акры, Бейрута) и заказали там нужное количество кораблей. В морском деле и навигации они тоже не разбирались, так что на свой египетский флот наняли моряков-коптов [148], а на персидский – наемников, прежде служивших на византийских судах. Немного позже, когда свой флот потребовался и Карфагену, мусульманский «правитель Египта прислал тысячу коптов-корабелов… чтобы построить флот в сотню боевых кораблей» [149]. Поскольку сведений о мусульманских кораблях или моряках почти не сохранилось (и это само по себе намекает, что мусульманские авторы с ними почти не сталкивались) [150], у нас есть все основания полагать, что мусульмане так и не взяли на себя ни постройку кораблей, ни управление ими: всю работу за них выполняли дхимми. Так, в 717 году, во время последней попытки арабов напасть на Константинополь с моря, решающим фактором в их поражении стал «переход множества христиан, составлявших команду мусульманских судов, на сторону византийцев» [151]. Наконец, когда в 1571 году огромный мусульманский флот был потоплен европейцами в битве при Лепанто, «обе флотилии возглавляли европейцы. Сам султан предпочитал видеть адмиралами итальянских перебежчиков» [152]. Более того, арабские корабли не только копировали европейский дизайн. «Их строили для султана высокооплачиваемые наемники» [153], «корабелы из Неаполя и Венеции» [154].
Пресловутая арабская архитектура тоже оказывается в основном достижением дхимми, адаптацией персидских и византийских образцов. Когда халиф Абд аль-Малик возвел в Иерусалиме знаменитый Купол Скалы, восхваляемый как один из величайших шедевров исламского искусства – он нанял византийских архитекторов и ремесленников [155]; вот почему Купол так сильно напоминает Храм Гроба Господня [156]. Также и в 762 году, когда халиф аль-Мансур основал Багдад, планировку города он поручил зороастрийцу и иудею [157]. В сущности, множество знаменитых мусульманских мечетей изначально были христианскими церквями; чтобы превратить их в мечети, мусульманам оставалось лишь пристроить минареты и поменять внутреннее убранство. Как пишет признанный специалист по исламской архитектуре и искусству: «Купол Скалы – яркий образец того, что мы сегодня считаем мусульманским искусством, хотя далеко не всегда это искусство создавали мусульмане… точнее сказать, это искусство, созданное в обществе, где мусульманами было большинство – или, как минимум, большинство влиятельных людей» [158].
Схожими примерами полны и интеллектуальные области, вызывающие привычное восхищение арабской ученостью. Так, в своей прославленной книге, написанной с целью признать «огромный» вклад арабов в естественные науки и инженерное дело, Дональд Р. Хилл отмечает, что очень немногие изобретения и открытия действительно имеют арабское происхождение, и признает, что большей частью из них мы обязаны покоренным арабами народам. Например, Авиценна, которого «Британская энциклопедия» наградила званием «самого влиятельного из числа мусульманских философов-ученых», был персом. То же верно для знаменитых ученых Омара Хайяма, аль-Бируни и ар-Рази, перечисленных рядом с Авиценной. Еще одного перса, аль-Хорезми, называют отцом алгебры. Аль-Уклидиси, введший дроби, был сирийцем. Бахтишу и Ибн Исхак, ведущие фигуры «мусульманской» медицинской науки, были христианами-несторианами. Машаллах ибн Асари, знаменитый астроном и астролог, был иудеем. Этот список можно расширить на несколько страниц. Должно быть, многих историков ввело в заблуждение то, что все эти представители «арабской науки» носили арабские имена и публиковали свои труды на арабском – «официальном» языке своей страны.
Возьмем математику. Так называемые арабские цифры – полностью индусского происхождения. Более того, даже после того, как великая индийская система счисления, основанная на понятии нуля, была переведена на арабский, ею начали пользоваться лишь математики; прочие мусульмане продолжали использовать свою громоздкую традиционную систему. Многие другие математические открытия также приписаны «арабам» ошибочно. Например, Сабит ибн Курра, известный многочисленными открытиями в геометрии и теории чисел, обычно называется «арабским математиком», хотя он принадлежал к языческой секте сабиев. Разумеется, встречались и прекрасные математики-мусульмане – возможно, потому что абстрактный предмет исследований надежно защищал исследователей от любой религиозной критики. То же можно сказать об астрономии, хотя и здесь пальма первенства принадлежит не арабам, а индусам и персам. «Открытие», что земля вращается вокруг своей оси, часто приписывают персу аль-Бируни, но сам он признавал, что узнал об этом от Брахмагупты и других индийских астрономов [159]. Кроме того, аль-Бируни не был в этом уверен; в своем «Масудском каноне» он писал: «Неважно, примем ли мы, что движется Земля или небо. В любом случае это не окажет на астрономическую науку никакого влияния» [160]. Еще один знаменитый «арабский» астроном аль-Баттани был, как и Сабит ибн Курра, членом языческой сабийской секты (сабии поклонялись звездам, чем и объясняется их особый интерес к астрономии).
Многочисленные утверждения, что арабские достижения в медицине намного превышали медицину предшествующих культур, [161] так же ошибочны, как и в случае с «арабскими» цифрами. «Мусульманскую» или «арабскую» медицину на деле разрабатывали христиане-несториане; даже ведущие мусульманские и арабские врачи прошли обучение в огромном несторианском медицинском центре в сирийском городе Нисибисе. Там обучали не только медицине, но и всему спектру тогдашних научных знаний, как и в других учебных заведениях, организованных несторианами, например, в персидском Гондишапуре, который видный историк науки Джордж Сартон (1884–1956) назвал «величайшим интеллектуальным центром того времени» [162]. Таким образом, несториане «скоро заслужили у арабов репутацию великолепных вычислителей, архитекторов, астрологов, банкиров, врачей, купцов, философов, ученых, писцов и учителей. В сущности, до IX века почти все ученые люди [на исламских территориях] были христиане-несториане» [163]. Именно христианин-несторианин Хунайн ибн Исхак аль-Ибади (по-латыни его имя передавалось как Иоанниций) «собрал, перевел, пересмотрел и отредактировал переводы греческих рукописей, особенно Гиппократа, Галена, Платона и Аристотеля, на сирийский и арабский» [164]. Даже в середине XI века мусульманский автор Насир-и-Хусрау сообщал: «Поистине, писцы здесь, в Сирии, как и в Египте, все христиане… и самое обычное дело для врача… быть христианином» [165]. В Палестине при мусульманском правлении, согласно фундаментальному историческому труду Моше Хиля, «христиане обладали огромным влиянием и очень сильными позициями во власти, прежде всего благодаря даровитым администраторам из тех, кто занимал правительственные посты, несмотря на мусульманский закон, запрещавший назначать христиан [на подобные места], или тех, кто был частью тогдашней интеллигенции благодаря своим выдающимся познаниям в естественных науках, математике, медицине и так далее» [166]. Важную роль чиновников-христиан признает и Абдул-Джаббар, писавший около 995 года, что «цари Египта, аль-Шама, Ирака, Джазиры, Фариса и всех окрестных земель полагаются на христиан в вопросах бюрократии, управления и распределения средств» [167].
Даже многие из самых промусульманских историков, включая и знаменитого англичанина, обратившегося в ислам, переводчика Корана Мармадьюка Пиктхолла (1875–1936) [168], согласны, что высокоразвитая мусульманская культура ведет свое начало от покоренного населения. Однако при этом обычно упускают из виду следующее: закат этой культуры и неспособность мусульман держаться наравне с Западом связана именно с тем, что мусульманская или арабская культура была в значительной мере иллюзией, покоящейся на сложной смеси культур дхимми, а следовательно, ее было легко утратить и еще легче объявить еретической. Поэтому, когда в XIV веке мусульмане затоптали на Востоке почти все ростки религиозного нонконформизма, на первый план вышла отсталость мусульманства как такового.
