История России. С древнейших времен до наших дней
Tekst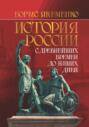


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1620 str. 7 ilustracji
- Kategoria: powieść historyczna, literatura historyczna
Судебник Ивана III
С целью введения единообразия в судебно-административную систему в 1497 году был составлен и принят общерусский Судебник. Выше говорилось о первом памятнике русского законодательства – Русской Правде. Нормы, зафиксированные в ней, действовали, скорее всего, с XII до начала XIV века, потому что ни о каких новых крупных юридических памятниках этого времени не известно. В XIV веке начинают появляться договорные грамоты великих московских князей с удельными князьями; помимо этого каждый князь оставлял и завещание – духовную грамоту. В XV веке появляются еще уставные и судные грамоты. Уставные – это Двинская и Белозерская грамоты, которые фиксировали вхождение данных территорий в Московское государство, подтверждали, что данная территория отныне является частью Московского государства. Судные грамоты содержат нормы судопроизводства, нормы наказания (в первую очередь следует отметить Новгородскую и Псковскую). Это основные юридические документы, созданные в XV столетии и предшествовавшие Судебнику 1497 года. Введение новой системы законодательства было необходимо еще и потому, что в конце XV века фактически существовало единое Русское государство и старые законодательные нормы Русской Правды стали уже не соответствовать требованиям времени.
Рукопись Судебника была обнаружена в 1817 году русским археографом и ученым П. М. Строевым. Любопытно то, что она сохранилась в единственном экземпляре, отсюда и значительный интерес к этому документу. В публикации 1873 года Судебник для удобства изучения был разделен на 68 статей, и это разделение сохранилось до настоящего времени.
Первая статья Судебника: «Судити суд боярам и околничим, а на суде быти у бояр и у околничих дьякам». Фактически дьяки вели все оформление дел, выдавали необходимые справки, в определенных ситуациях истолковывали закон. Следует отметить, что помимо приказных дьяков были думные дьяки, которые работали в Боярской думе.
Вторая статья говорит о том, что всех жалобщиков, которые приходят к боярам, не отсылать, а давать им управу, то есть все слои населения имели право требовать суда.
Третья статья: «А имати боярину и дьяку в суде от рублевого дела на виноватом, кто будет виноват. А боярину на виноватом два алтына, а дьяку осемь денег». Оплату судебных издержек было принято возлагать всегда на того, кто был признан виновным.
Судебник особо останавливается на посулах – денежных суммах, которыми оплачивался судебный процесс. К концу XV века посулы все чаще превращались в официальную форму взятки, в связи с этим в Судебнике посулы было установлено не принимать.
Ряд статей Судебника говорит о полевых пошлинах, взимающихся за «поле», то есть судебный поединок в виде кулачного боя. Вплоть до конца XV века сохранялся древний пережиток: кулачные бои были не просто забавой, а в определенных случаях разрешалось доказать собственную юридическую правоту в кулачном единоборстве. Существовали профессионалы кулачного боя, которые предлагали свои услуги по защите чести того или иного человека, если этот человек по различным причинам сам не мог биться. Православная церковь категорически выступала против таких поединков, считая их языческим обычаем, убитых не отпевали, а тех, кто убил, причисляли к убийцам. Судебник, фактически признавая правомочность «поля», определяет суммы, которые надо было платить за организацию поединка и ущерб, который понесли люди, так или иначе причастные к нему.
В Судебнике также содержатся статьи о «татьбе» (воровстве), неправом суде, бессудном списке, самопродаже в рабство, езде. «Татьба» делилась на две группы: просто воровство и воровство с элементами грабежа. Соответственно назначались и наказания: просто вор мог отделаться штрафом, тогда как грабители нередко бывали «казнены смертию». Статья «о езде» предусматривала выплату денег чиновнику из Москвы, отправленному для службы в другой город. Размер выплат зависел от расстояния.
Важнейшей статьей Судебника является известная 57-я глава «о крестьянском отказе»: «А христианом (крестьянам) отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двое рубль. а в лесех полтина. А которой христианин поживет за ким год да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре годы поживет, и он весь двор платит». Эта глава устанавливала Юрьев день (день памяти cв. Георгия) – 26 ноября, когда за неделю до этого дня и в течение недели после него крестьянин мог покинуть своего хозяина. В другие дни отныне это делать крестьянину запрещалось. Совершенно очевидно, почему в качестве перехода выделялся осенний Юрьев день: все полевые работы к этому времени уже завершались. Кроме того, за потерю работника крестьянин обязан был выплатить хозяину компенсацию. В лесах плата была дешевле, поскольку поставить двор проще: вокруг дров много. А в степную местность лес для постройки привезти надо издалека. Отсюда и разница в деньгах.
Разумеется, возникает вопрос: почему именно в это время возникает необходимость прикрепления крестьян к земле?
За огромный период, начиная с XIV и до конца XV столетия, в обществе произошли заметные изменения, среди которых самое главное – активное расслоение общества, выделение новых социальных групп. Часть удельных князей и их потомков в результате разрастания семей неуклонно беднеет. Шло бесконечное дробление уделов и вотчин, так как каждому наследнику должна была достаться хоть малая часть наследства. Уже в третьем-четвертом поколении закономерно должно было наступить обнищание определенной части знати. В результате к концу XV века сформировался довольно значительный слой общества, который, кроме благородного происхождения, больше ничего не имел за душой. Кроме того, с укреплением Московского государства все больше выходцев из Литвы и из Большой Орды едут в Москву на службу. Также большое количество удельных князей, теряя независимость в процессе присоединения их территорий к Москве, отправляется на службу к великому князю. На Руси начинает формироваться совершенно новое сословие – дворянство. Процесс складывания этого сословия окажется долгим и окончательно завершится лишь в XVIII веке.
Как начинался этот процесс? Все вышеуказанные категории людей – и обнищавшие, и лишившиеся земель, и приехавшие издалека – шли на службу к великому князю. Служба была трех видов: военная, придворная и гражданская. За службу жаловали землю или двор для получения дохода с крестьянских хозяйств, расположенных на этой земле, и человек именовался дворянином. Если дворянин покидал службу или умирал, то двор возвращался в государственную казну. Наследовать двор, в отличие от вотчины, было невозможно. Однако дворяне пытались закрепить двор за своей семьей. Если из-за старости, болезни или ранения дворянин освобождал место у великого князя, он старался устроить на это место своего сына. Таким образом, происходило наследование службы, а вместе с ней – и двора.
Как правило, в качестве двора выделялась одна деревня, в которой было 4–5 домов. Деревня в 20 домов считалась огромной. В таком дворе каждый крестьянин был на счету, и уход нескольких человек мог серьезно подорвать благосостояние дворянина. Поэтому, для того чтобы упрочить экономическое положение дворянского сословия, крестьян начинают прикреплять к земле. Следует подчеркнуть, что лично крестьянин оставался независимым, не превращался в раба конкретного хозяина. До определенной степени положение крестьянина и дворянина уравновесилось: крестьянин был отныне прикреплен к земле, дворянин – к государственной службе. Однако дворянин, в отличие от крестьянина, не платил подати в казну. Таким образом, 57-я статья Судебника явилась следствием зарождения новой социальной группы русского общества – дворянства.
Освобождение Руси от ордынской зависимости
Окончательное освобождение Руси от ордынской зависимости произошло ровно через сто лет после Куликовской битвы. Хотя указанная битва явилась причиной серьезных внутренних изменений в русском обществе, на политической ситуации это не отражалось еще несколько десятилетий. Следует напомнить, что лишь два года после Куликовской битвы Русь была относительно свободной, нашествие Тохтамыша на Москву и ее сожжение возвратило прежнюю зависимость. Ослабленная после Куликовского сражения Русь не могла сопротивляться. Затем в 1408 году был поход на Русь Едигея, и московскому князю Василию Дмитриевичу вновь пришлось платить дань и ездить в Орду. И только лишь после смерти Василия Темного в 1462 году происходит определенный перелом в отношениях с монголами.
Собственно Золотой Орды в княжение Ивана III уже не существовало. После ее распада возник ряд самостоятельных государственных образований. Та Орда, которая теперь фактически занимала место бывшей Золотой, была значительно меньше, но называлась Большая Орда. Исследователи также отмечают, что к этому времени монголы из кочевников постепенно становятся оседлым земледельческим народом. В это же время выделяются Крымская и Астраханская орды, появляются отдельно существующие Сибирские – Тюменская, Ногайская и другие, которые впоследствии будут еще долго представлять опасность для границ России.
В 1480 году хан Ахмат, властитель Большой Орды, заключив союз с польско-литовским королем Казимиром IV, решил совершить набег на Москву, чтобы восстановить прекращенную Иваном III за несколько лет до этого выплату дани. Положение усложнялось вспыхнувшим мятежом удельных князей – братьев Ивана III, недовольных усилением власти великого князя.
Иван III хорошо знал о планах Ахмата. Понимая, что хан вступил в союзнические отношения с Литвой и справиться с этим альянсом будет сложно, он постарался обезопасить себя прежде всего от литовского короля. Иван III проявил незаурядное политическое мастерство и сумел «побить одних татар при помощи других». Он заключил союз с противником Ахмата крымским ханом Менгли-Гиреем, который вторгся в украинские владения Казимира IV и тем самым не дал ему выступить на помощь Ахмату. Одновременно Ивану III удалось ликвидировать и опасный мятеж удельных князей.
Летом 1480 года, когда стало известно, что монголы двинулись к московским границам, русское войско заняло позиции на южных рубежах Московского государства, которые проходили по течению реки Оки. Крайним левым флангом стала Коломна, были укреплены Серпухов, Боровск, Кашира и все те места на Оке, где есть броды. Сам великий князь находился в Коломне, его сын – в Серпухове, прочие воеводы в других крупных городах. Монголы, подойдя к Оке, не смогли переправиться и были вынуждены продвигаться по правому берегу до литовских пределов, где перешли Оку. Затем двинулись уже вдоль берега Угры, а с противоположного берега им грозили русские отряды и заставы, которые не давали возможности подойти ни к одному броду.
В разгар этих событий Иван III неожиданно приехал в Москву, что вызвало большое недоумение. Он приехал один, без войска, и это породило тревожные предположения, что князь бежал. Было известно и то, что его старший сын Иван Молодой отказался ехать в Москву и остался со своим полком на театре военных действий. Оказавшись в городе, Иван III начал принимать меры для обеспечения безопасности Москвы, и самое гнетущее впечатление на московское население оставил его приказ вывезти из города казну, а великой княгине Софье Фоминичне ехать на север, к Белоозеру. Так обычно делали, когда город готовили к сдаче, и это вызвало единодушное возмущение горожан. Наиболее ярко выразил свой протест против действий великого князя архиепископ Ростовский Вассиан (Рыло). Он находился в тот момент в Москве, встречал Ивана III вместе с митрополитом и сказал князю очень резкие слова о том, что ему надлежит делать: заботясь о своем народе, своей земле, князь должен идти на врага, а ни в коем случае не уступать. Можно предположить, что в окружении Ивана III было немало людей, которые предлагали заключить с монголами мир или, как бывало, откупиться от них, то есть избрать традиционный путь и избавиться от ордынцев при помощи чисто дипломатических усилий. Ивану III пришлось возвращаться к войску.
Сам Ахмат, удерживаемый все это время русским войском, понял, что ему не удастся переправиться по воде, и решил ждать наступления морозов, поскольку уже пришла осень, а монгольской коннице гораздо легче было перейти реку по льду. Расчет Ахмата послужил толчком к очередной попытке переговоров между Иваном III и монгольской стороной. Однако, как только в Москве стало об этом известно, архиепископ Вассиан отправил на Угру свое знаменитое послание, в котором в непримиримом тоне потребовал от Ивана III боевых действий, ни в коем случае не уступок своим злым советникам. «Ты, государь, повинуясь нашим молениям и добрым советам, обещал крепко стоять за благочестивую веру нашу православную и оборонять свое отечество от басурман. Льстецы же нашептывают в ухо твоей власти, чтобы предать христианство, не считаясь с тем, что ты обещал. А митрополит со всем священным и боголюбивым Собором тебя, государя нашего, благословил на царство и к тому же так тебе сказал: „Бог да сохранит царство твое силою Честнаго Креста Своего“… Ныне же слыхали мы, что басурманин Ахмат уже приближается и губит христиан и более всего похваляется одолеть твое отечество. А ты пред ним смиряешься, и молишь о мире, и послал к нему послов. А он, окаянный, все равно гневом дышит и моления твоего не слушает, желая до конца разорить христианство. Но ты не унывай, но возложи на Господа печаль твою, и он тебя укрепит, ибо Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. А еще дошло до нас, что прежние смутьяны не перестают шептать в ухо твое слова обманные и советуют тебе не противиться супостатам, но отступить и предать на расхищение врагам словесное стадо Христовых овец. Подумай о себе, о своем стаде, к которому тебя Дух Святый поставил. Что советуют тебе эти обманщики лжеименитые, мнящие себя христианами? Одно лишь: побросать щиты и, нимало не сопротивляясь этим окаянным… предав христианское отечество, изгнанниками скитаться по другим странам. Подумай же, великоумный государь, от какой славы к какому бесчестию сводят они твое величество».
Судя по данному отрывку, в окружении князя были люди, которые исходили из чисто личных интересов. Нужно помнить, что обстановка в то время на Руси была очень неспокойной: собственный сын Ивана III желал сражаться с монголами и был против переговоров, Москва после действий великого князя была на грани паники, а хуже паники в ответственную минуту ничего не могло быть. Вассиан понимал, что его «полемика» с великим князем привлекла огромное внимание, что его послание сделается достоянием очень многих людей.
Когда наступили холода, Иван III со своими воеводами, видя, что со дня на день река встанет и сделается проходимой для монгольской конницы, принял очень важное в стратегическом плане решение. По его приказу русские войска покинули свои места вдоль течения реки и, не теряя боевых порядков, отошли вглубь, объединившись в одно большое войско около Боровска. Великий князь опасался, что растянутая линия войск может не удержать массированного удара монгольской конницы, а собранное воедино московское войско будет успешно противостоять нападению.
Некоторыми людьми это отступление от Угры было принято за бегство, и кое-где среди населения и даже среди ратников возникла паника. Однако дальше произошло странное и удивительное событие. Когда Угра наконец замерзла и наступил момент для решающего удара Ахмата, монголы, развернувшись, начали стремительно отступать. Разграбив те литовские земли, которые оказались по дороге, Ахмат стремительно отошел к Донцу, чтобы встать там на зимовку. Вскоре к месту зимовки подошла Тюменская орда, возглавляемая ханом Иваком, и Ахмат был Иваком убит. Это событие явилось концом стояния на Угре и формальным окончанием монгольской власти над Русью. Однако, как уже говорилось, борьба с ханствами, появившимися на развалинах Орды (Крымским, Казанским, Астраханским), продолжалась еще длительное время.
Русская церковь
Русское государство со времени Крещения Руси было неотделимо от церкви, а церковь – от государства. Идеи православия с самого момента Крещения Руси стали не только неотъемлемой частью русского общественного сознания, но и главной опорой, на которой базировалось большинство направлений как внешней, так и внутренней политики Руси вплоть до начала XVIII века. Исторические судьбы русского народа всегда были связаны с историей православия, и это необходимо признать как аксиому.
Конец XIII – начало XIV века – это особый период, когда главную роль в сохранении Русского государства играли не столько князья, сколько митрополиты. После разгрома монголами основных городских центров Руси духовные и политические процессы, которые шли в русских землях, были сильно заторможены. Отдельные княжества были просто стерты с лица земли, другие находились в сильном упадке, истреблены и уведены в рабство тысячи людей, захирели ремесла, разрушилась торговля. Связи между княжествами настолько ослабли, что Юго-Западная Русь откололась от остальной части единой некогда Руси. И Церковь в этот период стала силой, которая сохранила единство и влияние во всех землях, продолжая духовно объединять их. В этих условиях особая ответственность за судьбы православной церкви, людей и всего Русского государства легла на плечи тех, кто возглавлял Церковь, – митрополитов Кирилла, Максима, Петра и других. Митрополиты были людьми разных национальностей (русские и греки), характеров, разной степени одаренности и образованности. Однако в политике они вели линию, направленную на сохранение государственности. Во многом именно первосвятители Церкви сумели выстроить объединительную политику московских князей.
В самом начале монгольского нашествия Церковь возглавлял митрополит Иоасафа, бесследно исчезнувший в круговерти страшных событий 30-40-х годов XIII века. Вскоре князь Даниил Галицкий провел выборы нового митрополита, которым стал один из галицких игуменов Кирилл (1242–1281). Несколько лет в суматохе тех событий он не был официально утвержден Константинополем, но затем, после визита в Грецию, признан законным главой Церкви.
О митрополите Кирилле известно немного, но мы знаем, среди прочего, что он постоянно разъезжал по Руси, посещая города, монастыри, села и деревни. Это было нарушением традиции: в домонгольский период митрополиты обычно не покидали Киев. Однако после монгольского нашествия было не до соблюдения официальных правил. Русская земля была страшно разорена, сотни церквей и монастырей были ограблены и лежали в развалинах, а их духовенство и монашество разбежалось или было перебито. Среди «мерзости запустения», царившей в Русской земле, начинают вновь воскресать языческие обычаи, обряды, игрища, расшатывается нравственность. Именно поэтому митрополит постоянно в разъездах: он рукополагает священников, освящает оскверненные храмы, служит и проповедует, помогая русским людям преодолеть страшный упадок духа и отчаяние.
В 1274 году во Владимире состоялся церковный Собор, на котором был избран епископ города Владимира. Им стал знаменитый проповедник Серапион Владимирский. Важное значение имели «Правила митрополита Кирилла», принятые на Владимирском соборе. В них митрополит не стеснялся открыто говорить о самых сложных проблемах, назревших в обществе. «Приде бо в слухе нашем, яко неции от братиев наших дерзнувше продати священный сан», – в первом правиле речь идет о распространении в среде духовенства симонии – поставлении в священники или епископы за деньги, что всегда считалось в Церкви одним из наиболее тяжелых преступлений. Второе правило сообщает о частых нарушениях в чине крещения детей и взрослых, что, очевидно, было связано как с гибелью значительного числа священных книг (рукописные книги в тех условиях быстро восполнить было непросто), так и с тем, что на место выбитого духовенства пришло много людей, которым не у кого было учиться.
Третье правило Собора запрещает кулачные бои, нередко кончавшиеся убийством одного из участников и сильно распространившиеся в тот период. Пятое правило свидетельствует о сильнейшем падении нравственного уровня духовенства: среди многих священников сложился обычай начинать праздновать Пасху с Вербного Воскресенья (за неделю до Пасхи) и напиваться так, что всю Страстную неделю не совершать служб. И митрополит строго осуждает эту недопустимую «традицию». Седьмое и восьмое правила говорят о языческих обычаях «русалиях», существовавших еще в IX веке. «Русалии» сводились к тому, что после ритуальных плясок раздетые донага парни и девушки предавались разврату. Теперь они кощунственно справлялись в Пасхальную ночь.
Таким образом, сам первосвятитель Русской церкви, посетив сотни городов, сел и храмов, констатировал серьезный духовный упадок общества. Святитель Кирилл понимал, что материальные богатства восстановить гораздо легче, чем духовный потенциал. И если сейчас не остановить или хотя бы не замедлить духовное разложение общества, то через десять – пятнадцать лет вырастет поколение, которое уже не будет помнить нравственных устоев. «Русалии», кулачные бои, симония и многое другое будут считаться не нарушением норм церковной жизни, а самой нормой жизни. А следом за этим придется оставить надежду на освобождение из-под власти монголов и восстановление былого могущества Руси и Церкви: опустившиеся, бездуховные люди обычно становятся равнодушными ко всему, что не касается непосредственно их, утрачивают естественные для человека понятия «честь», «достоинство», «Родина». Именно поэтому митрополит постоянно в пути: он понимал, как нужно сейчас людям слово первосвятителя, не только ободряющее, но и жестко осуждающее и запрещающее. Неудивительно, что жизнь митрополита оборвалась в дороге: он заболел, остановился в Переяславле и через некоторое время умер.
Преемником Кирилла стал митрополит Максим (1285–1305), грек по национальности, что не мешало ему чувствовать свою ответственность за историческую и духовную судьбу Руси и Русской церкви. Понимая, что Киев все больше остается на обочине истории Русской земли, что центр Руси сместился далеко на северо-восток, в 1299 году он принимает решение перенести митрополичью кафедру из Киева во Владимир. Значение этого шага его потомкам предстоит оценить спустя несколько десятков лет. «С этого момента история Руси, – говорит историк М. Воробьев, – духовная и политическая – созидается на северо-востоке. И хотя один из галицких князей пытался создать свою митрополию, которая просуществовала всего два или три года, но центр духовной жизни в Галиче так и не сложился. Мы знаем и то, что постепенно Южная Русь утратила свою государственность и вошла в состав Польши и Литвы. В XIV веке уже нет Галицко-Волынского княжества, а есть Великое княжество Литовское, которое впоследствии сольется с католической Польшей. И не последней причиной такого поворота событий стало перенесение митрополичьего престола».
После смерти Максима на его место был избран игумен Петр (1308–1326), впоследствии ставший первым московским митрополитом. Святитель Петр был известен и как замечательный проповедник, и как выдающийся иконописец: в Успенском соборе Московского Кремля и сейчас можно видеть его икону «Успение Богоматери». Известно, что именно митрополит Петр вновь перенес митрополичью кафедру – на этот раз из Владимира в Москву. Окончательным толчком к этому решению послужил конфликт Москвы и Твери. В это время великим владимирским князем был тверской князь Михаил, недовольный тем, что Петр поставлен на первосвятительскую кафедру не по его выбору. Вскоре в городе Переяславле был организован суд над митрополитом, которому было предъявлено надуманное обвинение в симонии (до сих пор на месте княжеского терема, где происходил суд, в Переславле-Залесском стоит красивый шатровый храм Петра-митрополита). Однако доказать вину митрополита не удалось, и Петр был оправдан.
Не последнюю роль в его оправдании сыграл московский князь Юрий Данилович, яростно защищавший святителя на суде, и тот не забыл помощи. В отличие от тверского князя, Юрий прекрасно понимал, насколько важны в это сложное время помощь и поддержка главы Церкви. После гибели Юрия в Орде новый московский князь Иван Калита продолжил политику своего предшественника, и она увенчалась успехом: в 1326 году Москва стала местопребыванием русских митрополитов и центром русского православия и остается этим центром доныне. В том же году митрополит Петр окончательно поселился в Москве. Святитель заложил здесь новый каменный собор Успения Богоматери и произнес знаменитое пророчество о Москве: «Град сей будет славен во всех градах русских, и святители будут жить в нем, и взойдут руки его на плечи врагов его, и прославится Бог в нем. Еще же и мои кости в нем положены будут».
Исполнение той части предсказания, что относится к самому митрополиту, наступило в декабре того же 1326 года. Вскоре он был причислен к лику святых и стал первым в числе небесных покровителей Москвы, а первосвятительский посох (сохранившийся до наших дней) из его рук перешел к митрополиту Феогносту (1328–1353), при котором за Москвой окончательно и навечно утвердился митрополичий престол. В Кремле, неподалеку от нового Успенского собора, возникло митрополичье подворье – резиденция главы Русской православной церкви. Феогност, как и Максим, прибывший из Греции, сумел многое сделать за время своего пребывания на митрополичьем престоле. Он подружился с иноком Алексием (будущим святителем Московским) и приблизил его к себе, подготовив таким образом достойного продолжателя своего дела. Митрополит также неоднократно ездил в Орду. Памятуя, что монголы не облагали податями духовенство и тех людей, которые числились за митрополитом, первосвятитель постоянно увеличивал свои земельные владения и тем самым выводил людей из-под монголо-татарской зависимости. Феогност делил с князем Симеоном тяготы управления государством и скончался от чумы почти в одно и то же время с князем.
При необходимости русские митрополиты оказывали содействие московским князьям деньгами, властью, авторитетом. Так, в малолетство князя Дмитрия Ивановича митрополит Алексий фактически был главой Московского княжества, и возвращение в руки московского князя ярлыка на великое княжение владимирское является во многом его заслугой. На деньги митрополита Алексия и Церкви строилась первая каменная крепость Руси – Московский Кремль. Поддержку малолетнему Василию II оказывал и митрополит Фотий.
Таким образом, XIV век стал удивительным временем, когда совершенно разные по духу, характерам, жизненным судьбам правители государства и Церкви шли вместе, не притязая на чужую власть, к единой цели восстановления независимости Руси и ее единства. Именно поэтому попытка Дмитрия Донского подчинить себе Церковь, поставив митрополитом бывшего коломенского священника Митяя, закончилась безрезультатно. Притязания княжеской власти не были поддержаны ни константинопольским патриархом, ни большинством русского духовенства, а внезапная смерть Митяя во время путешествия в Константинополь, где его должны были утвердить в качестве митрополита, была воспринята обществом как закономерный финал.
XIV столетие стало для Руси временем политического и духовного становления. В это время на Русь с Афона проникает исихазм – движение «умной молитвы», или «умного делания», оказавшее сильнейшее влияние на формирование особого типа национального сознания Руси. Исихазм рассматривал человека как микрокосма, отражающего всю разнообразнейшую природу окружающего мира – Макрокосм, и тем самым акцентировал внимание на личности человека, его внутреннем духовном мире, состоянии чувств. Огромное значение исихасты придавали молчанию, считая, что только в молчании возможно подлинное постижение Бога.
Исихазм помог сформировать отношение к тем бедственным переменам, которые произошли в это время, и определил направления путей поиска выхода из кризиса. К концу столетия исихазмом уже пронизывается вся русская общественная мысль, а также стиль и форма искусства той эпохи: литература, иконопись, духовное пение. Духом подвижничества питается вся жизнь русского общества, вдохновляется им и отображает его – дух преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Это был период, когда накопленный в предыдущие столетия духовный опыт Константинополя стал активно воплощаться в жизнь.
Восприняв нашествие монголов как наказание за грехи, за губительную междоусобную раздробленность, русское общество осознало необходимость покаяния. Проблема покаяния перестает быть делом отдельной личности и становится общенародной задачей. Развивается новый вид подвижничества, прежде почти не встречавшийся на Руси, – пустынножительство. В домонгольской Руси почти все монастыри были городскими или пригородными. Большинство же святых монгольской эпохи уходит из городов в пустыню и этим поднимает русскую духовную жизнь на недосягаемую высоту. Стремлением к покаянию объясняется также активное строительство новых монастырей в этот период (более ста), в то время как их число с момента Крещения Руси не превышало шестидесяти.
XIV век – это время преподобного Сергия Радонежского, величайшего русского святого, основателя собственно русского монашества. Его значение для русской истории, культуры, духовной жизни исключительно велико. «От преподобного Сергия многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напаивая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение, – писал священник П. Флоренский. – Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исторического».
Биография преподобного Сергия хорошо изучена, и нет нужды специально рассматривать ее. Но если к ней приглядеться внимательно с точки зрения современного человека, то можно найти полное противоречие с теми идеалами, которые сегодня предлагаются. Можно ли назвать с точки зрения современного человека преподобного Сергия героем? Вождем? Конечно нет. Герой всегда рвется быть первым, он успешен, знаменит и богат, поражает и потрясает, он требует поклонения или на худой конец почтения и уважения. Он образец счастливой жизни и беспечального бытия. С этой точки зрения преподобный Сергий являет нам полную противоположность. Он идет не к людям, не в дома, не на стогна града и площади, не произносит, как Савонарола, пламенных речей, а «в молчании уст» уходит от людей в лесную чащу, и даже когда к нему приходят первые последователи, старается уговорить их не оставаться с ним.
