История России. С древнейших времен до наших дней
Tekst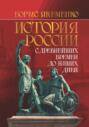


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1620 str. 7 ilustracji
- Kategoria: powieść historyczna, literatura historyczna
Со времен Калиты богатый московский князь начинает скупать целые города и уделы у нуждавшихся удельных князей. В условия покупки входило обыкновенно правило, по которому покупатель удела оставлял его в пользование прежнему владельцу в качестве вотчины, но обязывал продавца служить ему. Так поступил Калита с князьями Белозерским и Галицким. Если великий князь отнимал вотчину у какого-нибудь удельного князя и затем возвращал ее обратно, то обязывал такого князя служить ему без ослушания и считать свою возвращенную вотчину пожалованием великого князя. Когда же независимые уделы стали совсем редки, великий князь стал требовать, чтобы сохранившие свою независимость князья во всем подчинялись его воле, за что гарантировал им владение их вотчинами.
Завершение процесса образования единого централизованного государства в конце XV – начале XVI века
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы
С окончательным признанием наследственных прав московских князей на титул великих князей владимирских процесс объединения земель вокруг Москвы пошел значительно быстрее. Еще при Дмитрии Донском к Москве были присоединены Дмитров, Стародуб и Кострома, значительные территории в Заволжье и ряд мелких княжеств в верховьях Оки. В 1392–1393 годах к Москве было присоединено Нижегородское княжество, в конце XIV века – земли коми-пермяков по реке Вычегде. Большую роль в присоединении этой территории сыграла миссионерская деятельность просветителя пермской земли преподобного Стефана.
Святой Стефан Пермский был родом из Устюга Великого, вокруг которого располагались многочисленные поселения зырян. Стефан был сыном соборного устюжского клирошанина Симеона, очень рано научился грамоте и с детства прислуживал в церкви, научившись «в граде Устюге всей граматической хитрости и книжной силе». Очень рано Стефан почувствовал стремление к монашеской жизни и отправился в Ростов, где принял монашеский постриг в монастыре Св. Григория Богослова. Знаменателен был и самый выбор монастыря: «яко книги многи бяху ту». Научившись в монастыре греческому языку, Стефан стал одним из немногих людей на Руси, которые могли читать и говорить по-гречески (не говоря о том, что он знал и пермский язык). Используя свои способности к языкам и горя стремлением просветить язычников – коми и пермяков, Стефан создал пермскую азбуку и перевел на пермский язык богослужение и Священное Писание (вероятно, часть его). Возможно, для создания азбуки он воспользовался не греческим или славянским алфавитом, а местными рунами – знаками для зарубок на дереве.
Создав азбуку, он отправился с проповедью в коми-пермяцкие земли и проповедовал, разрушая языческие кумирни и уничтожая идолов, нередко рискуя жизнью. Однако только на проповеди он не останавливался. Всех желающих принять христианство он крестил, а крещеных, взрослых и детей, заставлял учить изобретенную им грамоту и читать церковные книги, а некоторых, проявивших особые успехи, даже рукополагал в священники. Стефан также основывал в Пермяцком крае храмы, для которых писал некоторые иконы (он был известен и как иконописец). Для поддержки своей деятельности Стефан часто бывал в Москве, хорошо знал преподобного Сергия Радонежского. Во время одного из таких визитов в Москву Стефан скончался (1396) и был погребен в кремлевском монастыре Спаса на Бору.
Наиболее крупным независимым государственным образованием наряду с Московским княжеством оставался Новгород. В условиях раздробленности новгородское боярство, лавируя между противоборствующими князьями, сохраняло свои привилегии и независимость Новгородской земли. Когда Москва стала ведущей политической силой, эта тактика себя исчерпала.
Чтобы лучше понять события, связанные с присоединением Новгорода к Москве, необходимо вкратце сказать о том, что представляла собой новгородская независимость на протяжении предшествующих веков своей истории.
В XIII веке Новгород не был взят монголами и остался олицетворением свободной Руси. Именно тогда великий князь Александр Невский, будучи приглашенным в Новгород, совершил над ливонцами и шведами свои знаменитые победы. И он же стал первым князем, сознательно желавшим ограничить новгородские вольности. Он хотел быть не приглашенным князем, а правящим, но поступаться своими принципами новгородцы не хотели и, не помня добра, расторгли с ним договор. Нет никакого сомнения, что князья Владимиро-Суздальской Руси прекрасно помнили все эти события. И поэтому, когда начала восстанавливаться русская государственность, владимирские князья все время настойчиво старались привести Новгород под свою руку, посылая туда своих старших сыновей. С началом московского периода русской истории давление на Новгород все более усиливается. Монголы требовали в качестве дани от московских князей большого количества серебра, которого в Москве не было, а в Новгороде было во множестве, поскольку серебро на Русь шло через Новгород благодаря обширной новгородской торговле. Московские князья обязывают Новгород постоянно поставлять в Москву серебро, и количество его все время увеличивается.
В конце XIV века Москва стала предпринимать первые шаги по ограничению независимости Новгорода, пытаясь включить некоторые его земли в Московское княжество. Однако предпринятая князем Василием I попытка присоединить к Москве богатейшую новгородскую территорию – Двинскую землю – окончилась неудачей.
В XV столетии происходит очень важный процесс, который в значительной степени способствовал падению независимости этого города: распадается внутреннее духовное единство Новгорода. Ранее, несмотря на внешнее имущественное и социальное неравенство, новгородцев объединяла идея независимости, обособленности, уникальности собственной государственности. Именно сознание своей земли как отдельного государства, которое, выделившись в процессе распада Киевской Руси, сохранило единство и не раздробилось, как другие княжества, на более мелкие земли, было источником той удивительной энергии, которая позволяла новгородцам успешно противостоять немцам, шведам, владимирцам, ростовцам и суздальцам. Теперь же единству приходит конец. Причин этого явления несколько.
Первой и, может быть, главной причиной было то, что новгородцы к этому времени все более ощущают себя не жителями отдельной земли, а гражданами возрождающего Русского государства, русскими людьми. Этот процесс происходил постепенно, и важнейшим стимулом к нему стала Куликовская битва. Общность веры, языка, обычаев и традиций со всеми остальными русскими землями все больше убеждала новгородское общество в том, что политические границы, отделяющие Новгород от всей Русской земли, становятся не нужны.
Второй причиной стало то, что в процессе продолжающегося объединения русских земель вокруг Москвы и ее возвышения Новгород из некогда важнейшего и влиятельнейшего города Руси постепенно становится провинцией. Если раньше, на фоне всеобщей удельной раздробленности, новгородское единство представляло собой выдающееся явление, то сейчас эта обособленность начинает превращаться в своеобразную «местечковость». И осознание этого приводит новгородское общество сначала к внутреннему, а затем и внешнему расколу. Одна часть новгородцев, понимая, что самостоятельно противостоять усиливающейся Москве уже невозможно, начинает все больше опираться на Литву и Польшу.
Первый шаг в этом направлении был сделан в 40-х годах XV века заключением договора с польским королем и литовским великим князем Казимиром IV, по которому последнему предоставлялось право сбора нерегулярной дани («черного бора») с ряда новгородских волостей. Другая же часть, исходя из того, что Новгород – часть русских земель, а новгородцы – православные русские люди, была категорически против контактов с католической Литвой и внутренне уже готова перейти под руку московского князя. Такие противоречия выливаются в неоднократные восстания горожан, наиболее крупные из которых отмечены в 1418, 1421, 1446 годах. Это облегчало московскому правительству борьбу за подчинение Новгорода. Во второй половине XV века глубочайший внутренний кризис Новгорода становится совершенно очевидным.
Кроме того, нельзя не учитывать и еще одну причину. В том же XV столетии необратимым становится процесс обособления боярства от остальной части новгородского общества и превращения его в олигархию – отдельный класс внутри новгородского общества, живущий по своим законам и принципам. После реформы посадничего управления (1410) вся власть в городе фактически перешла к боярам, и не осталось и следа от былых «демократических» вечевых традиций, которыми славился некогда Новгород. Боярство все более стремится к упрочению только своей власти, к концентрации богатства только в своих руках любой ценой, начиная ради достижения этой цели противостоять собственному посаду, ремесленному населению, что лишает боярство поддержки значительной части городского населения Новгорода.
Таким образом, к тому моменту, когда полки московских князей совершали походы на Новгород, им противостоял совершенно иной город, нежели полтора столетия назад.
В 1456 году Василий II совершил поход на Новгород, помня, что тот поддерживал во время династической войны Дмитрия Шемяку и дал ему убежище после поражения. После разгрома новгородского войска под Русой был заключен Яжелбицкий договор, согласно которому Новгород уплачивал великому князю контрибуцию в 10 тысяч рублей и обязывался впредь не оказывать поддержки противникам великого князя. За Москвой были закреплены перешедшие к ней еще при Василии I новгородские города Бежецкий Верх, Волок Ламский, Вологда с окружающими волостями. Законодательная власть веча была отменена, право внешних сношений ограничено.
В 70-х годах XV века в Новгороде усилилось влияние пролитовски настроенной боярской группировки бояр Борецких, главой которых стала вдова посадника Исаака, властная и непреклонная Марфа Борецкая (Марфа Посадница) и ее сыновья. Понимая, что сами они уже не смогут защитить свою самостоятельность, Борецкие решили пойти на открытый контакт с литовским князем Казимиром и попытаться использовать его поддержку в своих целях. Казимир, разумеется, обещал Борецким очень много, однако сделать он не мог и половины обещанного. Слухи об этих контактах, дошедшие до великого московского князя Ивана III (1462–1505), показали ему, что медлить нельзя и действовать надо решительно. Он мыслил, исходя из реалий огромного, почти сложившегося Русского государства со столицей в Москве. Новгород представлял для московского князя уже не только материальный, но и, бесспорно, интерес политический, потому что сближение новгородского боярства и Литвы стало к тому времени очевидной угрозой для общерусской целостности. Именно этими соображениями оправдывались действия великого московского князя в отношении Новгорода.
Великого князя Ивана III можно назвать одним из наиболее выдающихся деятелей русской истории. В памяти современников он остался высоким худощавым красивым человеком с величавой осанкой и столь грозным взглядом, что редко кто мог его выдержать, а женщины падали в обморок. Всякое дело он любил делать сам, и летопись рассказывает, что он принимал обыкновенно деятельное участие в тушении каждого большого пожара в Москве. Молчаливый и замкнутый, Иван любил слушать суждения других, как бы обтачивая ими свое собственное намерение.
В 1471 году Иван III организовал поход на Новгород. Князь получил вполне очевидные свидетельства, что в Новгороде затеяна не просто переписка с Казимиром, а именно измена делу объединения всей Русской земли, православной вере. Таким образом, Иван III двигался на Новгород не только под знаменем Москвы, но и под знаменем всех людей Руси, которые не желали проникновения католичества. Поход, как свидетельствуют московские летописцы, принял характер общерусского ополчения против «изменников христианству», отступников к «латинству».
В Новгороде была наспех собрана огромная рать и выслана против полков великого князя, однако новгородцев гнали навстречу московскому князю почти насильно, прибегнув к угрозам. Возглавил войско сын Марфы Дмитрий Борецкий. Полки великого князя двигались не единым фронтом, а отдельными отрядами, разоряя новгородские земли и творя всякие бесчинства, руководимые идеей – напугать и убедить новгородцев в могуществе великого князя. Наконец на реке Шелони четырехтысячная московская дружина столкнулась с сорокатысячным войском новгородцев. Новгородцы славились в древности тем, что, даже будучи в меньшинстве, могли повернуть вспять любого противника. Здесь же все произошло наоборот – после атаки москвичей новгородское войско, сражавшееся крайне неохотно, бежало, потеряв только убитыми почти 12 тысяч человек, еще 17 тысяч попали в плен вместе с Дмитрием Борецким. Полк новгородского архиепископа вообще простоял весь бой на месте. В обозе, который тоже достался москвичам, нашли подлинник договорной грамоты с королем Казимиром, что окончательно убедило Ивана III в правильности выбранной политики. Однако никаких страшных репрессий не последовало, кроме того, что великий князь казнил Дмитрия и еще троих знатных пленников. Он сумел сделать главное – заставить Новгород признать себя подвластным Москве, дать ее князю суд в Новгороде, вместе с тем сохранив какие-то остатки городского самоуправления.
Однако через несколько лет выяснилось, что полностью уничтожить пролитовскую партию в Новгороде не удалось, и вновь московский князь отправился туда. Он провел в Новгороде несколько месяцев, разбирая жалобы местных жителей и приучая их к мысли, что московский князь является единственным и справедливым их защитником. И вновь, как только за князем захлопнулись городские ворота, новгородское боярство стало настойчиво добиваться контактов с Литвой, понимая, что остался, возможно, последний шанс. Это стало последней каплей, и в 1478 году Иван III совершил последний поход на мятежный Новгород.
Теперь уже на новгородцев обрушились репрессии: арестованы десятки бояр, и те, кто обвинен по доносу в принадлежности к заговору, пытаны и казнены. Марфа Борецкая была увезена в Москву, где ее казнили. Должности посадника и тысяцкого были окончательно ликвидированы, на их место сели московские наместники, а вечевой колокол Новгорода доставлен в Москву. Существует предание, согласно которому до Москвы довезти его не удалось: когда обоз с колоколом проезжал по Валдаю, колокол упал и разбился. Его остатки собрали и вылили из них сотни знаменитых валдайских колокольчиков, в звоне которых доныне слышен отзвук былой новгородской вольности. Несколько сотен новгородских семей были вывезены из города и поселены в других русских городах, в частности в Москве (считается, что именно они принесли в Москву название своей родной улицы – Лубянка). А на их место поселили москвичей и жителей других городов Московского княжества.
Поэтому процесс присоединения Новгорода занял не один год и заключался, конечно же, не в одной битве на реке Шелони. Однако сила традиций новгородской вольности была настолько велика и трудно преодолима, что московский князь, дабы не утратить доверия среди новгородского населения, вынужден был пойти на некоторые уступки. Иван III обещал не «выводить» больше никого в другие земли, не вмешиваться в дела о земельных вотчинах, сохранить местные судебные обычаи, не привлекать новгородцев к несению военной службы в «Низовской земле». Дипломатические отношения со Швецией велись через новгородских наместников. Таким образом, Новгородская земля вошла в Российское государство с живыми следами прежней автономии.
В 1485 году после двухдневного сопротивления сдалась войскам великого князя былая соперница Москвы – Тверь, и большинство тверского боярства перешло на московскую службу. В 1489 году к Русскому государству была присоединена и важная в промысловом отношении Вятка. Вместе с северными владениями Новгорода и Вятской землей в состав Российского государства вошли и нерусские народы Севера и Северо-Востока. В 1494 году между Российским государством и Великим княжеством Литовским был заключен мир, по которому Литва согласилась вернуть России земли в верховьях Оки и город Вязьму. Мир был закреплен браком литовского князя Александра Казимировича с дочерью Ивана III Еленой, через которую Иван III в дальнейшем получал подробную информацию о внутреннем положении Великого княжества Литовского. Однако даже брачные связи не спасли Москву от войны с Литвой (1500–1503), закончившейся поражением литовских войск. К Москве после войны отошли верхнее течение Оки, земли по берегам Десны с ее притоками, часть верхнего течения Днепра, города Чернигов, Брянск, Рыльск, Путивль – всего 25 городов и 70 волостей.
После падения Новгорода была предопределена судьба еще одного известного и старейшего северного города – Пскова, невзирая на то что он всегда сохранял верность Москве и поддерживал ее князей. В городе давно было неспокойно, население волновалось, что использовали московские бояре, внося раскол между простым населением Пскова и местными боярами. В начале XVI века стало ясно, что годы независимости Пскова сочтены. Один из псковских летописцев горько сетовал на то, что псковичи «не умеющу своего дому строити, а градом наряжати» и что погубило Псков «у вечьи кричание». В 1510 году в княжение Василия III (1505–1533) Псковская республика прекратила свое существование. Это присоединение было чисто формальным актом, Псков не проявлял никакого сопротивления, поэтому все свелось к тому, что в Москву из него был увезен вечевой колокол. Кроме того, по сложившемуся обычаю, 300 семей псковичей было перевезено на поселение в Москву (они поселились на улице Варварке в Зарядье), а 300 семей московских – в Псков.
В 1514 году в результате очередной (третьей) войны с Литвой в состав Московского государства вошел старинный русский город Смоленск, население которого само открыло ворота московским войскам. Великий князь Василий III дал городу жалованную грамоту, сохранившую элементы самостоятельности в суде и администрации. И наконец, в 1521 году перестало существовать находившееся в вассальной зависимости от Москвы Рязанское княжество (рязанский князь угодил в Москве в заточение), с присоединением которого объединение русских земель вокруг Москвы было в основном завершено, хотя следы раздробленности еще долго сохранялись в политическом строе и экономической системе Руси. Результатом этого объединения стало образование огромной державы, самой крупной в Европе. С конца XV века вместо названия «Русь» стало входить в обиход новое название государства – «Россия».
Политический строй
Политический строй Московского княжества XIV – первой половины XV века мало чем отличался от сложившейся в XII–XIII веках политической системы русских княжеств. Глава государства носил титул великого князя. Царем именовался ордынский хан, чем подчеркивалось его верховенство над Русью. В XV веке реальный объем власти московского государя постоянно возрастал, и задолго до получения официальной независимости государства источники, относящиеся к XV веку, называют его «царем и самодержцем» (выше говорилось, что титул «царя» прилагался в источниках уже к Дмитрию Донскому). Московский великий князь, как верховный собственник всей земли в княжестве, обладал высшей судебной и административной властью. При князе существовала Боярская дума, в состав которой входили наиболее знатные бояре, духовные лица. Большую роль играл московский тысяцкий – глава городского ополчения (должность тысяцкого упразднена в 1378 году). Члены Думы назначались великим князем. Боярская дума заседала, как правило, ежедневно в присутствии великого князя и решала вопросы внутренней и внешней политики. Формулой окончательного решения Думы были слова: «великий князь указал, и бояре приговорили». Впоследствии (в середине XVI века) круг участвующих в решении государственных вопросов сословий в Думе расширился за счет дворянства и верхушки купечества.
Боярство было очень многослойным. Само слово «боярин» производят от скандинавского корня, или от слова «болеть» (в смысле «заботиться»), или от слова «бой» с прибавлением прилагательного «ярый», и таким образом считается, что это слово произошло от отличившихся в боях военачальников. Боярство существовало уже в X веке, и, очевидно, к нему принадлежали не только военачальники. Позднее в боярстве складывается целая иерархическая лестница. Бояре были: государевы, удельных князей, патриаршие, новгородские (в эпоху независимости Новгорода) и прочие. Государевы бояре заседали в Думе, были главными начальниками в приказах, управляли важнейшими городами, например Новгородом и Киевом, назначались полководцами и послами в иностранные государства, а в отсутствие царя «ведали Москву». Число их при разных царях было неодинаково. Обыкновенное жалованье боярам было не более 700 рублей, и увеличивалось оно только за особенные заслуги.
Первую степень боярства составляли окольничьи. Обязанность их состояла в наблюдении за околицами, то есть границами государства. Они же заведовали пограничным судом и вели заграничную переписку, должны были присутствовать при судебных поединках для вынесения окончательных решений и сопровождали царей в походах.
Ко второй степени относились думные дворяне (учреждаются в 1572 году) – члены Боярской думы. Один из них избирался печатником, или хранителем государственной печати, и прикладывал печать к государевым грамотам. Жалованье их было не свыше 250 рублей.
Третью степень представляли стольники (упоминаются в первый раз в 1398 году) – «предлагатели яств», которые всюду ездили с князем или царем. Стольники также занимали разные государственные должности: заседали в Думе, назначались в войсковые судьи, в головы над дворянскими сотнями, у знамени, у «снаряда» (пушек), посылались в города воеводами. Из стольников избирались рынды – стройные и рослые люди, стоявшие по сторонам царского трона, по два человека, неподвижно. В походах и на охотах они вместе с подрындами носили за царем его оружие: пищаль, копье, самопал, рогатину и доспехи.
Четвертую степень составляли стряпчие (под стряпней подразумевалась не пища, а головной убор государя, его рукавицы, платок и посох). Когда царь находился в церкви или в каком-нибудь приказе, стряпня передавалась стряпчим для хранения. Из них стряпчие с платьем носили за царем одежду в его походах.
К пятой степени относились дворяне.
Шестая степень – жильцы, знатные молодые люди, обязанные жить в москве и быть готовыми во всякое время отправиться на службу. Они были своеобразным охранным войском Москвы, но их посылали и в походы, и из них же нередко избирали стряпчих, знаменщиков и других должностных лиц при государевом дворе.
Седьмая степень – дети боярские. Они считались ниже дворян и происходили из различных сословий: небогатых князей, детей священников и прочих. Детям боярским давался участок земли, и они обязаны были по приказу боярина в любой момент выйти на военную службу в полном вооружении и с запасами на целый год.
Отдельными городами и областями управляли наместники и волостели на принципах кормления, то есть получения доходов от населения. Жители вотчин были подсудны своим землевладельцам. Из вотчинной юрисдикции, как правило, исключались наиболее серьезные преступления – дела о «душегубстве», «разбое» и «татьбе с поличным», суд по которым вершил сам князь.
В составе Московского княжества в разные периоды существовали и удельные образования во главе со своими удельными князьями. В пределах своих уделов они обладали державными правами, но обязаны были подчиняться великому князю и выполнять его волю. Особенностью управления в XIV–XV веках было соединение княжеского вотчинного управления с государственным. Князь выступал прежде всего как владелец своего княжества на вотчинном праве.
Значительные перемены в системе государственного управления произошли в конце XV – начале XVI века. Иван III проводил политику возвышения и усиления власти великого князя. Бывшие до этого вольными слугами, бояре и князья теперь присягают на верность московскому князю и подписывают особые клятвенные грамоты. Переход боярина или князя на службу к другому государю рассматривается теперь как государственное преступление – измена. Великий князь стал налагать «опалы» на бояр, удаляя их от своего двора и тем самым от государственной службы, конфисковывать их вотчины, ограничивать или расширять привилегии землевладельцев.
Повышению авторитета великого князя московского способствовала женитьба Ивана III на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог. Отныне Московское государство рассматривается как преемник Восточной Римской империи (павшей в 1453 году) в мировой истории. В связи с этим Иван III принимает в качестве государственного герба России византийского двуглавого орла, вводятся новые, более пышные официальные одежды, напоминающие византийские императорские одеяния, появляется (по образцу византийского) чин коронования на великокняжеский престол (первым в русской истории был венчан на княжение 3 февраля 1498 года в московском Успенском соборе по византийскому чину внук Ивана III Дмитрий). Венчание подняло авторитет государя, который отныне ставил себя выше европейских королей.
Присоединение к Московскому княжеству великих и удельных княжений привело к тому, что князья и знать этих земель становились придворными великого князя. Отношения между различными группами знати регулировались при помощи системы местничества, при которой государственная должность была тем выше, чем старше и знатнее был род боярина. Знатность рода определялась как близостью того или иного рода к великому князю, так и давностью службы. Местнические порядки распространялись не только на процесс занятия должностей, но и на повседневную жизнь, например даже места рядом с государем за столом занимались боярами в строгом соответствии со своей родовитостью. Для того чтобы не возникало споров вокруг этого, заводятся специальные родословные книги. Если боярин считал себя ущемленным, то подавал царю челобитную с просьбой решить дело. Местничество было важной системой, благодаря которой распределялись посты, соответствующие им награды, права, обязанности и привилегии. Наиболее высокое место в этой иерархии занимали потомки русских и литовских великих и удельных князей – Рюриковичи и Гедиминовичи.
Главным органом власти по-прежнему была Боярская дума. Значительное влияние на политику московского государя также оказывали митрополит и Освященный собор – собрание высшего духовенства.
Существовали два общегосударственных органа – Дворец и Казна. Сначала это были органы вотчинного управления, но позже приобрели функции государственных. Дворец, возглавлявшийся дворецким, ведал личными землями великого князя. Впоследствии дворецкие рассматривали поземельные споры, судили население. После присоединения новых территорий или ликвидации уделов для управления этими землями создавались местные дворцы: новгородский, тверской, нижегородский и другие.
Казна, возглавлявшаяся казначеем, ведала не только финансовыми вопросами. Там хранились государственный архив и печать, так что Казна выполняла функции государственной канцелярии.
С усложнением системы государственного управления возникает необходимость в создании специальных учреждений, которые руководили бы отдельными группами дел: военными, финансовыми, иностранными, судебными и т. д. В органах дворцового управления начали образовываться особые ведомственные «столы», управляемые дьяками, впоследствии развившиеся в приказы, когда определенная группа вопросов поручалась («приказывалась») боярину с приданным ему штатом дьяков. Впервые приказы упоминаются в 1511 году, но, возможно, важнейшие из них, например Посольский, могли возникнуть и раньше. Для финансирования приказов им нередко давались в управление отдельные города и уезды, где они собирали в свою пользу налоги и пошлины.
Можно заметить сходство между словами «дьяк» и «дьякон» (младшая степень священства). Действительно, в дьяки, то есть чиновники приказа, не брали дворян и детей боярских, тем более выходцев из княжеских фамилий, а исключительно детей священников, и на протяжении XV–XVII веков эта практика сохранялась. Почему сложилась такая система? Во-первых, они все были грамотными: отец-священник, безусловно, знал грамоту сам (священником не мог стать неграмотный человек) и учил сыновей грамоте. Поскольку дети не всегда могли или хотели продолжить путь своих родителей, они, будучи грамотными людьми, представляли собой чрезвычайно ценный слой людей для чиновничьей работы. Боярин, который управлял приказом, фактически был только его главой и большую часть времени проводил в Думе. А непосредственную работу знал и вел дьяк.
На местах продолжала существовать старая система кормлений. Территория страны делилась на уезды, которые в основном совпадали с удельным территориальным делением. Уезды в свою очередь делились на волости и станы. Власть в уезде принадлежала наместнику, в станах и волостях – волостелям. В помощь им для выполнения судебных функций давались приставы и доводчики.
