История России. С древнейших времен до наших дней
Tekst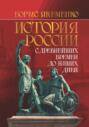


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1620 str. 7 ilustracji
- Kategoria: powieść historyczna, literatura historyczna
Она явилась в 1353 году в образе страшной болезни, «черной смерти» – чумы, занесенной на Русь, очевидно, из Индии. В Москве она появилась уже после того, как обошла многие княжества, и об опустошительности ее свидетельствует хотя бы тот факт, что в городах Белозерске и Глухове после ее нашествия не осталось в живых ни единого человека. Священники не успевали отпевать умерших, поскольку в день в каждом московском храме таковых было по нескольку десятков человек. В марте 1353 года от чумы скончался митрополит Феогност. Не успело пройти сорок дней со дня его кончины, как болезнь посетила и самого великого князя Симеона.
Умирая, князь в своем завещании младшим братьям сформулировал главный принцип отношений в московском княжеском роде, благодаря которому Московское княжество сумело добиться успехов в объединении русских земель, – покорность и послушание младших старшим, сохранение мира и согласия: «По отца нашего благословенью, что приказал нам жить заодин, также и я вам приказываю, своей братье, жить заодин, лихих людей не слушати, которые станут вас ссорить, слушайте отца нашего, владыки Алексия, да старых бояр, которые отцу нашему и нам добра хотели. Пишу вам это слово для того, чтобы не перестала память родителей наших и наша, чтоб свеча не угасла». Скончался Симеон Иванович в полноте сил, когда ему было всего лишь 36 лет.
Сменивший Симеона его брат Иван II (1353–1359), прозванный за красоту Красным, был кротким, тихим и милостивым человеком. Слабый здоровьем, он не походил характером ни на отца своего, Калиту, ни на своего брата. Он тоже умер рано, в 33 года, оставив после себя двух малолетних сыновей – Дмитрия и Ивана. Политической слабостью и ранней смертью Ивана II поспешили воспользоваться соперники московского князя. Монгольский хан вручил ярлык на великое княжение суздальскому князю Дмитрию Константиновичу (1359–1363). Однако Москва продолжала борьбу, и ключевую роль в ней сыграл фактический правитель Московского княжества при малолетнем князе Дмитрии, сыне Ивана II, святитель московский митрополит Алексий.
Мирское имя святителя было Елевферий, он родился в 1300 году и происходил из боярского рода Плещеевых. Еще при Данииле Александровиче его отец, Федор Бяконт, переехал в Москву и служил при дворе великого князя. Иван Калита был крестным отцом новорожденного Елевферия. В двадцать лет Елевферий поступил в московский Богоявленский монастырь и принял монашество с именем Алексия. Одаренный многими способностями и острым, проницательным умом, Алексий стал одним из наиболее деятельных помощников митрополита Феогноста, а после его смерти был возведен и на митрополичий престол. Его слава как великого подвижника и молитвенника росла день ото дня, и об этом стало известно в Орде.
Неожиданно хан потребовал, чтобы святитель приехал в Орду и исцелил его ослепшую жену Тайдулу, угрожая в случае отказа новым нашествием. Митрополит поехал, отслужил молебен, окропил Тайдулу святой водой – и случилось чудо: ханша прозрела. Святитель был щедро вознагражден. Хан подарил ему драгоценное кольцо, а Тайдула – принадлежавший ей участок земли в Московском Кремле, где ранее находился татарский двор. Но это была не единственная поездка святителя в Орду. Охраняя покой на Русской земле, он побывал там несколько раз и даже, защищая чистоту православной веры, бесстрашно вступал в Орде в споры с мусульманскими богословами, чтобы и там привести к вере хотя бы некоторых. После смерти князя Ивана Красного митрополит Алексий стал опекуном восьмилетнего князя Дмитрия (будущего Дмитрия Донского), возглавляя в то же время Боярскую думу. Его решительный, твердый характер, непререкаемый авторитет очень помогли юному князю Дмитрию удержать за собой московский престол.
В 1363 году святитель вмешался в усобицу между суздальско-нижегородским князем Дмитрием Константиновичем, получившим ярлык на великое княжение, и его младшим братом Борисом, захватившим Нижний Новгород. Не достигнув успеха в мирных переговорах с Борисом, святитель направил в Нижний Новгород преподобного Сергия Радонежского, «игумена земли Русской», с которым находился в постоянном общении. Прибыв в город, преподобный Сергий затворил в нем все церкви, лишив горожан возможности крестить детей, отпевать умерших, а самое главное – причащаться и исповедоваться. Назревало восстание горожан против непокорного князя, и Борису пришлось подчиниться и вернуть город старшему брату. Сам же Дмитрий Суздальский в благодарность за эту поддержку не только отказался от великого княжения владимирского в пользу московского князя, но и заключил с ним военный союз. И несколько позднее боярское правительство во главе с митрополитом Алексием путем переговоров в Орде и военного нажима на суздальско-нижегородского князя добилось главного – отказа Дмитрия Суздальского от великого княжения в пользу князя Дмитрия Ивановича (1363–1389). В 1378 году святитель московский митрополит Алексий скончался и был погребен в основанном им Чудовом монастыре.
Дмитрий Донской ничем не походил на своего отца, Ивана Красного. Характер его закаляется в битвах с Тверью и ее союзником, литовским князем Ольгердом Гедиминовичем, рязанцами, мордвой. Будучи сам талантливым воином, он окружает себя не менее одаренными полководцами, среди которых особенно выделялись двое – князь Владимир Андреевич Серпуховский и воевода Дмитрий Иванович Боброк-Волынский. Все они, не зная отдыха, «…стражу земли Русскые мужеством своим держаше». Свидетельством возросшего экономического и политического значения Москвы стало строительство в 1367 году Кремля – первой каменной крепости Московского княжества.
В конце 60-х годов XIV века начинается новый этап московско-тверской борьбы. Соперником московского князя выступает сын Александра Михайловича Тверского Михаил. Однако Тверское княжество уже не могло в одиночку противостоять Москве. Поэтому Михаил Александрович привлек в качестве союзников Литву и Орду, что способствовало потере тверским князем авторитета среди русских князей. Два похода на Москву литовского князя Ольгерда в 1368 и 1370 годах закончились безрезультатно, так как литовцы не смогли взять новых каменных московских стен. Неудачи походов Ольгерда побудили тверского князя искать союзников в Орде, правители которой со все возрастающей тревогой следили за усилением Москвы и готовы были поддержать любого ее противника. В 1371 году Михаил получил в Орде ярлык на великое княжение, но Дмитрий Иванович отказался признать его великим князем, чувствуя себя уже достаточно сильным, чтобы решиться пойти на конфликт с Ордой. Отказались признать Михаила жители Владимира и других русских городов, оставшись верными московскому князю.
В 1375 году Михаил вновь добился в Орде ярлыка на великое княжение. В ответ Дмитрий Иванович, почувствовав в себе силы окончательно покончить с этим затянувшимся противостоянием, встал во главе московских войск и военных сил, собравшихся из многих русских земель (отряды суздальских, стародубских, ярославских, ростовских князей и даже войска из удельных княжеств Тверской земли, что означало признание ими верховенства московского князя в Северо-Восточной Руси), и осадил Тверь. Поход московского князя против Твери впервые принял характер общерусского национально-патриотического движения. Помогало Дмитрию и то, что жители Твери отказались поддерживать своего князя и потребовали от него сдачи города и заключения мира с Москвой. И Михаил уступил. Согласно «докончанию» (договору) 1375 года между Дмитрием Ивановичем Московским и Михаилом Тверским последний признавал себя «братом молодшим» московского князя, отказывался от притязаний на великое княжение и от самостоятельных сношений с Литвой и Ордой. Подобные же договоры о признании старейшинства московского князя были заключены Дмитрием с рязанским и другими князьями. С этого времени титул великого князя владимирского становится навсегда достоянием московской династии.
Тем временем к середине XIV века порядки в Золотой Орде «поисшатались», потихоньку начало убывать былое могущество, а верхушка все более погрязала в склоках и драках, которые, словно ржавчина, разъедают любое величие и единство. Со смертью в 1341 году последнего сильного хана Орды – Узбека – начинаются ожесточенные усобицы. «Велика замятня в Орде», – отмечал летописец, что подтверждается и фактами: с 1359 по 1380 год в Орде сменилось 25 ханов, некоторые занимали престол лишь по нескольку дней. В этой ситуации московские князья под предлогом того, что платить некому, все реже посылают дань в Орду, а с 70-х годов XIV столетия совершенно перестают ее платить.
В 1375 году правителем Орды становится Мамай – темник (начальник войска) хана Бердибека, не имевший законного права на престол, который могли занимать лишь Чингисиды, и поэтому правивший от имени ничтожных ханов. Ему удалось преодолеть смуту, объединить на некоторое время Орду, после чего нашлось время взглянуть и в сторону Руси. Правитель понимал, что «тишина» в тех краях становится все более угрожающей, и чувствовал, как незримо слабеет власть Орды. И он, собрав огромное войско, в которое входили степняки-кочевники, воины из подвластных ему Поволжья, Крыма и Кавказа, пошел на Русскую землю. Честолюбивый правитель решил одним ударом навсегда покончить с угрозой могуществу его власти, провести не набег, а именно нашествие, воскресить старые Батыевы традиции и окончательно – духовно и политически – поработить Русь. Для этого он даже изучал документы времен Батыя. Кроме того, ощущая себя чужаком на престоле, он понимал, что только нашествие такого размаха могло доказать его приближенным, что он достоин называться правителем Золотой Орды. Нельзя не вспомнить и то, что принятие Ордой ислама в первой половине XIV столетия уничтожило существовавшую когда-то веротерпимость.
Московский князь Дмитрий Донской сознавал, что наступает время нанести Орде ответный удар, видел, что страха перед монголами уже нет. Лучшим доказательством этого были столкновения с монголами в 1377 и в 1378 годах. В 1377 году на берегах реки Пьяны (в пределах Нижнего Новгорода) русские воеводы и ратники, вышедшие навстречу монголам, не встретились с ними и расположились лагерем. Шли жаркие летние дни, а никаких признаков приближения врага не было. Воеводы и рядовые воины, сложив доспехи и оружие на возы, предались охоте и, как водится, обильным возлияниям, что позволило летописцу едко заметить: «Воистину за Пьяной все пьяны быша». А когда неожиданно появились монголы, русская рать оказалась не готова к встрече с ними и была разгромлена. Почему же об этой истории можно говорить в положительном смысле? Дело в том, что эта ситуация ясно показывает, насколько изменилось отношение русских к монголам, исчезла боязнь перед их воинской мощью, что и проявилось в таком удалом молодечестве.
Однако в следующем, 1378 году уже сам великий князь московский Дмитрий Иванович, узнав о готовящемся набеге, «в силе тяжце» отправился встречать монголов в рязанские пределы и на реке Воже столкнулся с большими монголо-татарскими силами. Последовала молниеносная атака русских конных дружин, и вражеские войска под руководством мурзы Бегича были разгромлены и бежали, забыв про обоз и пленников. Битва на Воже имела большой резонанс в Орде и на Руси. Мамай был вынужден отсрочить замышляемый им поход на Русь для более тщательной его подготовки, создания подавляющего превосходства в силах, с привлечением в союзники враждебных Москве литовского великого князя Ягайло Ольгердовича и рязанского князя Олега. Дмитрий же, а вместе с ним и жители Московского княжества все больше понимали, что от власти монголов можно освободиться и что главная битва впереди.
Куликовская битва и ее значение
Существуют два литературных памятника XV века – «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», которые передают ту атмосферу, что царила на Руси в канун Куликовской битвы и после нее. Из них мы узнаем, что в начале 1380 года три разных правителя – рязанский князь Олег, литовский князь Ягайло и Мамай – заключили между собой союз, согласно которому Мамай пойдет нашествием на Русь, Олег не будет выступать на стороне москвичей, а литовцы поспешат на помощь Мамаю (следует отметить, что «предательство» князя Олега в отношении Москвы оспаривается некоторыми историками). В Москве об этом было известно, и Дмитрий, зная наверняка, что решение о походе на Русь уже принято, стал готовиться к решающему сражению. Он разослал разведку, которая должна была следить за Ордой во время ее летнего кочевья, поскольку та всегда перед началом похода кочевала. Лошадей откармливали на тучных летних пастбищах, а маршрут кочевья выбирался так, чтобы к моменту выступления границы, которые следовало пересечь, были бы рядом. Как только стало известно, что Орда переходит Волгу, князь Дмитрий разослал гонцов по городам и княжествам с сообщением о том, что близко то время, когда понадобится помощь всех русских сил. «И прослышал князь великий Дмитрий Иванович, что надвигается на него безбожный царь Мамай со многими ордами и со всеми силами, неустанно ярясь на христиан и на христову веру и завидуя безголовому Батыю. И сильно опечалился князь великий Дмитрий Иванович из-за нашествия безбожных. И став пред иконою Господня образа, что в изголовье его стояла, и упав на колени свои, стал молиться». Князьям было приказано съезжаться в Москву со своими дружинами, а ополчению из разных городов – идти к Коломне. Датой сбора назначили праздник Успения Богоматери, 26 августа.
Затем были посланы «сторожи» – конные подвижные заставы, призванные следить за передвижениями Орды в степи, а также добыть «языка», который вскоре был захвачен и отправлен к великому князю. «Язык же был из сановных мужей» и сообщил великому князю, что «неотвратимо надвигается Мамай на Русь и что списались друг с другом и соединились с ним Олег Рязанский и Ягайло Литовский. И не спешит царь оттого идти, что осени дожидается».
Монголы совершали свои походы, как известно, осенью, после того как кони хорошо отдохнули, когда пышное разнотравье кончилось и уже наступали первые заморозки, сковывавшие льдом реки и превращавшие их в дороги. Тем временем в Москву собрались князья. «И пришли к нему князья белозерские, готовы они к бою, прекрасно снаряжено войско их… И вот князь великий Дмитрий Иванович, взяв с собой брата своего князя Владимира Андреевича и всех князей русских, поехал к Живоначальной Троице, на поклон к отцу своему духовному, преподобному Сергию, благословение получить от святой той обители. И просил его преподобный Сергий, чтобы прослушал он Святую Литургию, потому что был тогда день воскресный и чтилась память мучеников Флора и Лавра. По окончании же Литургии просил святой Сергий со всею братиею великого князя, чтобы откушал хлеба в доме Живоначальной Троицы, в обители его. Великий же князь был в замешательстве, ибо пришли к нему вестники, что уже приближаются поганые татары. И просил он преподобного, чтобы его отпустили. И ответил ему преподобный старец: „Это твое промедление благим для тебя поспешением обернется. Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уже венцы плетутся“. Князь же откушал хлеба у них, а игумен Сергий велел воду освящать с мощей святых мучеников Флора и Лавра. Князь же великий скоро от трапезы встал, и преподобный Сергий окропил его священной водою и все христолюбивое его войско и осенил великого князя крестом Христовым, знамением… И сказал: „Пойди, господин, на поганых половцев. Призывай Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником“. И добавил ему тихо: „Победишь, господин, супостатов своих, как и подобает тебе, государь наш“. Князь же великий сказал: „Дай мне, отче, двух воинов из своих братий – Пересвета Александра и брата его Андрея“». Иноки, бывшие брянские бояре, были тут же отданы князю, причем преподобный Сергий возложил на них схиму, как бы напутствуя на смерть. Можно лишь представить, как уплотнилось время в те дни, как неслись из Москвы Дмитрий Донской и князья в Троицу и обратно в Москву, потому что совсем немного оставалось дней до праздника Успения, когда они должны были быть в Коломне.
Возвратившись в Москву, они назначают выход на 27 августа. «В тот день решил князь великий выйти навстречу безбожным татарам». Со своим братом Владимиром Андреевичем Дмитрий пошел в Успенский собор молиться перед гробницей святителя Петра, затем в Архангельский собор – поклониться гробам родителей и предков. «Княгиня же великая Евдокия, и Владимира княгиня Мария, и других православных князей княгини, и многие жены воевод, и боярыни московские, и жены слуг их стояли, провожая, от слез и кликов сердечных не могли слова сказать, свершая прощальное целование. И остальные княгини, боярыни и жены слуг также свершали со своими мужьями прощальное целование и вернулись вместе с… княгинею. Князь же великий, еле удерживаясь от слез, не стал плакать при народе… сильно прослезился, утешая свою княгиню, и сказал: „Жена, если Бог за нас, то кто против нас?“» В это время в трех кремлевских воротах – Никольских, Спасских и Константино-Еленинских, ближайших к Москве-реке, – встало московское духовенство. Священники держали чаши со святой водой и кресты, и через эти ворота из города стало тремя дорогами выходить огромное войско (некоторые исследователи оценивают его в 200 тысяч человек), которое собралось по призыву князя в Москве. Воины шли ряд за рядом, строй за строем через народ, священники напутствовали их крестами и кропили святой водой. По трем дорогам уходило войско в сторону Коломны, а княгиня Евдокия и остальные княгини собрались в светлице наверху терема и оттуда через окно смотрели, как уходит за горизонт тремя потоками, сливаясь где-то там в единое войско, московская рать. Они понимали, что вернутся далеко не все, и «слезы лились, как речная струя».
В день Успения Богоматери войска собрались под Коломной, на Девичьем поле, где был устроен смотр всему огромному войску. Полкам был придан строй, который следовало держать во время похода, назначены были воеводы большого полка, полков левой и правой руки, и отдан приказ, чтобы при прохождении через Рязанскую землю не тронуть волоса с головы рязанцев, не допустить никаких насилий и грабежей. Князь Дмитрий прекрасно понимал, сколь много будет зависеть во время битвы от духовного состояния воинов, поэтому на Куликово поле надо было прийти, не запятнав свою душу убийством, грабежом и насилием. И через Рязанское княжество огромная московская рать прошла тихо и двинулась к берегам Дона. Было известно, что литовский князь идет на помощь Мамаю. Встал вопрос: где встречать врагов? Было принято единственно правильное решение: ускорить движение, чтобы попытаться опередить соединение монголов с литовцами. Литовское войско было очень большим, и Дмитрий понимал, что если это соединение произойдет, то шансы на победу будут ничтожны.
«Когда князь великий был на месте, называемом Березуй, за 23 поприща от дома, настал уже пятый день месяца сентября. Прибыли двое из сторожей заставы… добыли знатного языка из сановников царского двора, и рассказывал тот язык: уже царь на гати стоит, но не спешит, поджидает Ольгерда Литовского (на самом деле Ольгерд умер в 1377 году и князем был Ягайло)».
Посовещавшись со своими советниками, князь решил переправляться через Дон. «И князь великий приказал своему войску через Дон переправляться, а в это время разведчики поторапливают, ибо приближаются поганые татары. А за многие дни множество волков стеклось на место то, завывая страшно, беспрерывно все ночи, предчувствуя грозу великую». Стаи волков шли перелесками по бокам от войск, предвкушая богатую поживу, а по ночам они располагались вокруг лагеря русских воинов и страшно выли, что, без сомнения, погружало русских воинов в невеселые думы. Когда же переправились через Дон, то стало ясно, что остаются уже не дни, а часы до начала битвы. «В шестом часу дня примчался Семен Мелик с дружиной своей, за ним гналось множество татар… почти до нашего войска, лишь только русских увидев, возвратились быстро к царю, сообщили ему, что князья русские изготовились к бою у Дона. Там же Мелик поведал князю великому: „Уже Мамай на Гущин брод пришел и одна только ночь между ним, ибо к утру он дойдет до Непрядвы“». Русское войско, переправившись через Дон, встало на поле фронтом к врагу: сторожевой полк, большой полк, полки левой и правой руки. Впереди было сторожевое охранение.
«Тогда начал Дмитрий Иванович с братом своим князем Владимиром Андреевичем вплоть до шестого часа полки расставлять. Некий воевода пришел с литовскими князьями именем Дмитрий Боброк, родом из Волыни, который знатным был полководцем. Хорошо он расставил полки по достоинству, как и где ему подобает стоять». Вечером князь еще раз объехал полки: «Ибо ночь наступила уже светоносного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Осень тогда затянулась и днями светлыми еще радовала. Была в ту ночь теплынь большая и очень тихо. И туманы от росы встали… Сказал Дмитрий Волынец великому князю: „Хочу, государь, в ту ночь примету свою проверить“». И они ночью выехали на нейтральную полосу. «Став между двумя войсками, поворотясь на татарскую сторону, услышал стук громкий, крик, вопль, будто торжище сходится, будто город строится… Слева же от татарского войска волки воют грозно, по правой стороне войска татарского вороны кличут и гомон птичий громкий очень, а по левой стороне будто горы шатаются – гром страшный. По реке же Непрядве гуси и лебеди крыльями плещут, небывалую грозу предвещая…» На русской же стороне была полная тишина, не доносилось ни звука.
Этот эпизод, изложенный неизвестным повествователем, представляет немалый интерес для понимания психологии и духовной организации русского человека. С вражеской стороны слышны были шум, крики, гомон, там предвкушали победу и веселились. А на русской стороне стояла гробовая тишина. Русские воины готовились к бою, исповедовались, читали молитвы, думали и в благоговении проводили, может быть, последний вечер в своей жизни. Перед лицом смерти нельзя веселиться, вести себя легкомысленно, поскольку предстоит встреча с Богом, Божий суд, к которому нужно подготовиться достойно. И эта традиция была жива всегда. Вспомните, что в известном стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино» описывается такая же сцена: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз», – французы пировали, надеясь на скорую победу. «Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус». И то же самое было перед битвой на Курской дуге в 1943 году.
«И сошел Волынец с коня и приник к земле правым ухом на долгое время. Поднявшись, поник и вздохнул тяжело. И спросил князь великий: „Что там, брат Дмитрий?“ Тот же молчал и не хотел говорить ему. Князь же великий долго понуждал его. Тогда он сказал: „Одна примета тебе на пользу, другая же к скорби. Услышал я землю, рыдающую двояко. Одна сторона, точно какая-то женщина, громко рыдает… на чужом языке, другая же сторона, будто какая-то дева, громко вскрикнула печальным голосом, точно в свирель какую, так, что горестно слышать очень. Я ведь до этого много теми приметами битв проведал, оттого и теперь рассчитываю на милость Божию. Молитвами святых страстотерпцев Бориса и Глеба, родичей ваших, и прочих чудотворцев, русских хранителей я жду поражения поганых татар. А твоего христолюбивого войска много падет, но, однако, твой верх, твоя слава будет“».
Этой глухой ночью князь и Дмитрий Боброк-Волынец поставили в находящуюся неподалеку дубраву засадный полк – отборных конных дружинников во главе с двумя лучшими полководцами, двоюродным братом князя Дмитрия Владимиром Андреевичем и самим Дмитрием Боброком. Наступило утро 8 сентября 1380 года. Туман рассеивался медленно. Когда он исчез совсем, наступил второй час дня, и «начали у обоих войск возноситься звуки боевых труб».
Князь не желал уклоняться от борьбы, быть в стороне от битвы, где погибают его товарищи. Однако вместе с тем сознавал, что он глава войска и государства и с его гибелью участь русского войска будет решена. Поэтому он пошел на военную хитрость, чтобы не погибнуть вскоре после начала сражения, так как понимал, что на княжеский стяг будет направлена самая лютая татарская атака. Под его княжеским стягом (а русский стяг был в то время темно-красного цвета с вышитым золотом Спасом Нерукотворным) стал ближайший боярин Михаил Бренок, одетый в княжеские одежды. Сам князь хотел отправиться со сторожевым полком, но его отговорили, и он как простой дружинник стал в ряды большого полка.
Битва началась поединком татарского богатыря Челубея и Александра Пересвета. «Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу. И… от него Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: „Этот человек ищет подобного себе. Я хочу с ним переведаться“. И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по повелению игумена Сергия. И сказал: „Отцы и братья, простите меня, грешного. Брат мой Андрей Ослябя, моли Бога за меня…“ Бросился на печенега и добавил: „Игумен Сергий, помоги мне молитвой“. Печенег же устремился навстречу ему, и христиане воскликнули: „Боже, помоги рабу Своему!“ И ударились крепко копьями, едва земля не преломилась под ними, и повалились оба с коней на землю и скончались». И хоть погибли оба, но духовная победа была уже налицо, потому что татарин был в доспехах, а Пересвет только в схиме – духовной броне. Сразу после этого войска сошлись, и началась схватка. В течение шести часов шла рукопашная. Стена ломила стену, раненые погибали, истекая кровью, люди задыхались от жары, умирали от удушья, раздавленные телами сцепившихся воинов, а те, кто падал под копыта лошадей, уже никогда не поднимались. Через несколько часов татары постепенно стали теснить русские войска, проломив сначала сторожевой полк, потом врубившись в большой полк и полки правой и левой руки. Однако русское войско не бежало, а, пятясь, теряя своих товарищей, отходило, держа ряды, к Непрядве. «Когда же настал седьмой час дня, по Божьему попущению за наши грехи начали поганые одолевать. Вот уже из знатных людей многие перебиты, богатыри же русские, воеводы, удалые люди, будто деревья дубравные, клонятся к земле под конские копыта. Многие сыны русские сокрушены. Самого великого князя ранили сильно и с коня его сбросили. Он с трудом выбрался с поля, ибо не мог больше биться».
А засадный полк все стоял и стоял. Что испытали эти ратники, видя, как их товарищи погибают, можно только гадать, но Дмитрий Боброк, пожилой человек и опытный воин, удерживал рвавшегося в бой молодого князя Владимира Андреевича. «„Беда, княже, велика, но еще не пришел наш час. Начинающий раньше времени вред себе принесет, ибо колосья пшеничные подавляются, а сорняки растут и буйствуют над благорожденными. Так что немного потерпим до времени удобного и в тот час воздадим по заслугам противникам нашим“.
И вот наступил восьмой час дня, когда ветер южный потянул из-за спин нам. И воскликнул Волынец голосом громким: „Княже Владимир, наше время настало, час удобный пришел“. И прибавил: „Братья мои, друзья, смелее, сила Святого Духа помогает нам!“» И засадный полк, пустившись галопом, строем внезапно врезался с тыла в татар. Законы конного боя таковы, что при отражении кавалерийской атаки необходимо встречать ее плотно сомкнутым строем и тоже на галопе, иначе войско теряет порядок и становится добычей тех, кто строй сохранил. А татары оказались меж двух фронтов и перестроиться уже не могли. В тот же момент оставшиеся русские ряды, почувствовав, что татары остановились и пытаются развернуться, собрали последние силы и перешли в наступление, помогая коннице. Началось избиение татар, которое продолжалось до вечера. Мамай, стоявший в стороне на Красном холме, увидев, что происходит, бежал, а с ним и его свита. Догнать их так и не смогли, хоть и преследовали около 40 километров до реки Мечи. Князь Владимир встал на поле под багряным знаменем. «Страшно, братья, зреть тогда и жалостно видеть и горько взглянуть на человеческое кровопролитие…»
Когда все затихло, стало ясно, что князя Дмитрия нет среди уцелевших, и его начали искать. Стало известно, что он сражался сразу с тремя, под ним пала одна лошадь, а затем вторая, а потом кто-то видел, как он, уже пеший, отбивался от татар. Стали осматривать павших, объезжать поле и наткнулись на него в дубраве. Два воина, Федор Сабур и Григорий Холопищев, оба родом костромичи, чуть отошли от места битвы и набрели на великого князя, всего избитого и израненного. Он лежал в тени срубленного березового дерева, которым кто-то заботливо прикрыл князя от случайного взгляда врага. Воины увидели его и, слезши с коней, поклонились князю. Сабур тотчас же вернулся сказать о том князю Владимиру и воскликнул: «Князь великий Дмитрий Иванович жив и царствует вовеки!»
К князю помчался Владимир Андреевич. Дмитрий был без сознания, и его стали приводить в чувство. Открыв глаза, он проговорил тихо: «Что там, поведайте мне». Когда он потерял сознание, исход битвы еще не был ясен. Когда же он узнал, что татары разгромлены, к нему стали возвращаться силы, ему помогли сесть на коня, и он начал объезжать поле. Приблизившись к тому месту, где стоял под княжеским стягом Михаил Бренок, князь увидел его мертвым и заплакал.
После этого началось семидневное «стояние на костях» на Куликовом поле. В течение недели русское войско хоронило своих товарищей. Для простых воинов рыли огромные братские могилы, а бояр и князей клали в дубовые гробы-колоды, чтобы везти в Москву и те города, из которых они пришли. Только после того, как последний русский ратник был похоронен, войско двинулось обратно. Проходя через рязанские земли, войско Дмитрия Донского заняло Рязань. Князь Олег бежал. Когда воины вошли уже в московские пределы, то вся Москва с большой радостью и великой скорбью вышла встречать победителей за город, к Андроникову монастырю. Живыми вернулось чуть больше трети. От монастыря войско вместе с простыми горожанами и духовенством пошли к Москве.
Так совершилась победа на Куликовом поле. Победа не только над татарами – победа над собственной робостью, нерешительностью и многовековой разделенностью. Ведь в Куликовской битве разноплеменной татарской рати противостояли уже не разрозненные полки москвичей, ярославцев, владимирцев, нижегородцев, а единое русское войско, сплоченное незыблемой верой в правоту своего дела, единой духовной идеей. Можно считать, что именно в этом сражении те тысячи людей, что проживали на Руси, стали русским народом, объединенным спасительной верой в Бога и осознавшим Москву и земли вокруг нее своей родиной.
