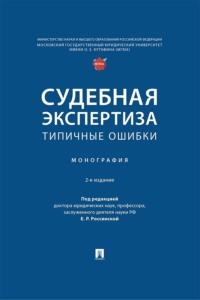Czytaj książkę: «Судебная экспертиза: типичные ошибки», strona 2
– нарушение процедуры предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
– отсутствие сведений об экспертах, производивших экспертизу: их образовании; экспертной специальности, стаже экспертной работы и пр.;
– отсутствие исследовательской части заключения как таковой;
– отсутствие в заключении подробного описания объектов, представленных на экспертизу;
– отсутствие подробного описания технологии экспертного исследования, включающей рекомендованную (сертифицированную) экспертную методику, а если таковой не имеется, – ссылок на научную литературу, содержащую рекомендации по исследованию подобных объектов;
– отсутствие описания осуществленных экспертных экспериментов и условий их проведения;
– отсутствие синтезирующей части в заключениях комиссионных и комплексных экспертиз;
– отсутствие выводов эксперта и их собственноручных подписей;
– подписание экспертом частей заключения, которые выполнены без его участия другими экспертами и другие.
Рассмотрим эти ошибки подробнее.
При назначении судебных экспертиз по уголовным делам согласно ст. 199 УПК РФ руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Государственного судебного эксперта не требуется каждый раз предупреждать об уголовной ответственности, но он в каждом экспертном заключении дает подписку, что знает об этой ответственности. Если судебная экспертиза назначена в негосударственное экспертное учреждение, его руководитель, согласно ст. 199 УПК РФ, предупреждает эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, «в случае поручения производства экспертизы лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлагается на суд (следователя), принявший решение о назначении экспертизы»12.
Подписка представляет собой официальное письменное обязательство лица, нарушение которого влечет для данного лица определенные законом отрицательные последствия. Практика показывает, что, казалось бы, простые нормы о необходимости предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения вызывают практические трудности в выборе формы предупреждения эксперта, а следовательно, и в соблюдении этого важнейшего процессуального правила, связанного с назначением экспертизы.
Требование о надлежащем оформлении подписки эксперта при проведении экспертизы не всегда соблюдается не только негосударственными экспертами, но даже и при проведении экспертизы в государственных экспертных учреждениях, которые зачастую относятся к этой важной процессуальной процедуре чисто формально. Текст подписки часто включается в текст заключения эксперта, оформляется и подписывается экспертом после окончания производства судебной экспертизы. Таким образом, фактическая постановка подписи эксперта и дата, указанная в подписке о предупреждении об уголовной ответственности, не соответствуют друг другу. Данное обстоятельство указывает на грубейшее нарушение процессуального законодательства (ст. 195, 199 УПК РФ), лишающее заключение эксперта доказательственного значения.
Подписка о предупреждении эксперта об уголовной ответственности содержится в виде бланка в конце процессуальной формы постановления о назначении судебной экспертизы. Подпись под подпиской эксперт, производящий экспертизу вне экспертного учреждения, должен поставить до начала производства экспертизы – в тот момент, когда ему следователь вручает постановление о назначении экспертизы. Заметим, что, если в подписке указано, что «права и обязанности эксперта, согласно ст. 57 УПК РФ», разъяснены, это означает, что в действительности эксперты ст. 57 УПК РФ не изучали, так как в ней ничего не говорится об обязанностях эксперта. Там речь идет о том, что эксперт делать вправе (ч. 3), что не вправе (ч. 4), какую и за что он несет ответственность.
На практике подписка государственных или негосударственных судебных экспертов либо оформляется отдельным документом, либо приводится в самом заключении, но при этом представляет собой действительную подписку с указанием должностей, фамилий экспертов, данных о том, когда и кем им поручено производство экспертизы, кем разъяснены их процессуальные права и они предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Подписка содержит дату и подпись эксперта под этим текстом.
Ошибки могут быть связаны с неправильной трактовкой, как субъектами правоприменения, так и руководителями организаций, понятия негосударственное судебно-экспертное учреждение/организация (СЭУ/СЭО). Зачастую под ним понимается любая организация, где работают лица, обладающие необходимыми специальными знаниями. В ФЗ ГСЭД о существовании негосударственных СЭО умалчивается, хотя возможность функционирования этих организаций подразумевается в процессуальном законодательстве, где законодатель говорит об экспертном учреждении вообще, но не о государственном экспертном учреждении (ст. 79 ГПК РФ; ст. 82 АПК РФ; ст. 77, 78 КАС; ст. 195 УПК РФ; ст. 26.4 КоАП РФ). Таким образом, законодатель не требует, чтобы экспертные учреждения были обязательно государственными13.
Как разъясняется в п. 1 постановления Пленума ВАС № 2314, экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации). Более того, Пленум ВАС отмечает, что суд не может отказать в проведении экспертизы в негосударственной экспертной организации, а равно лицом, обладающим специальными знаниями, но не являющимся работником экспертного учреждения (организации) только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы может быть поручено государственному судебно-экспертному учреждению.
В п. 2 постановления Пленума ВС № 28 от 21.12.201015 дается определение негосударственных судебно-экспертных учреждений, под которыми следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.
Следует обратить внимание, что на практике нередко смешиваются понятия «эксперт» и «экспертное учреждение», допускается расширительное толкование термина «экспертное учреждение», не соответствующее целям судопроизводства и задачам судебно-экспертной деятельности. Это приводит к тому, что выносятся постановления (определения), в которых нет ни фамилии, имени и отчества эксперта, ни наименования экспертного учреждения, а указывается юридическое лицо, не обладающее статусом судебно-экспертного учреждения.
Покажем это на конкретном примере из судебной практики. По уголовному делу, возбужденному по признакам ч. 2 ст. 282 УК РФ, была назначена социогуманитарная экспертиза, которая поручалась доценту одного из вузов. В постановлении о назначении экспертизы следователь указал фамилию, инициалы эксперта и его должность по месту основной работы в государственном высшем учебном заведении. В заключении эксперта содержалась подписка, где было сказано, что его предупредил об ответственности и разъяснил права, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, – ректор. При этом договор на оплату экспертных услуг почему-то был заключен с коммерческой фирмой «ООО Прометей», где эксперт и получил вознаграждение за проведенное исследование16. Указанные обстоятельства вызвали обоснованные сомнения в незаинтересованности и беспристрастности выводов эксперта, а нарушение процедуры разъяснения эксперту его прав и ответственности повлекли признание заключения недопустимым доказательством.
Негосударственные судебно-экспертные учреждения отличаются от неэкспертных учреждений прежде всего тем, что судебно-экспертная деятельность является для них основной, о чем говорится в учредительных документах учреждения. Сотрудники этих учреждений осведомлены о процессуальных, организационных и методических особенностях судебно-экспертной деятельности. Таким образом, руководитель оценочной или аудиторской организации, не являясь руководителем судебно-экспертного учреждения, не вправе предупреждать эксперта об уголовной ответственности. Делать это должны суд или следователь.
Переложение судом своих функций по выбору персоны негосударственного эксперта, проверке его компетенции, разъяснению ему процессуальных прав и ответственности на руководителя неэкспертного учреждения недопустимо. Но во многих случаях НИИ, вузы и другие организации, не являющиеся судебно-экспертными учреждениями, принимают к исполнению постановления и определения, вынесенные следователями и судами, их руководители позиционируют себя как руководители судебно-экспертных учреждений, фактически таковыми не являясь, не имея ни полномочий, ни соответствующих навыков и знаний.
Процессуальным нарушением является также отсутствие во вводной части заключения сведений об эксперте. Проиллюстрируем это примером. Следователь вынес постановление о назначении судебной криминалистической экспертизы звукозаписей в ООО, которое рекламировало себя в качестве экспертной организации. При этом в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника о производстве экспертизы в государственном экспертном учреждении следователь отказал. Генеральный директор ООО, получив постановление и материалы, поручил производство экспертизы своему работнику, которому сам разъяснил права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, о чем эксперт дал подписку при оформлении своего заключения. В дальнейшем сторона защиты заявила ходатайство о признании заключения эксперта «ООО» недопустимым доказательством, полученным с нарушением требований ст. 5, 195, 199 УПК РФ. Доводы стороны защиты были следующие. В постановлении о назначении судебной криминалистической экспертизы следователь обозначил фамилию, имя, отчество конкретного эксперта, а указал только наименование юридического лица ООО. В то же время назначение судебной экспертизы по уголовному делу ООО как коммерческой организации противоречит п. 2 постановления Пленума Верховного Суда № 28. Из этого следует, что наличие в постановлении о назначении экспертизы только наименования данного ООО, без указания фамилии, имени и отчества конкретного эксперта, неизбежно влечет признание заключения эксперта недопустимым доказательством.
В ряде случаев эти сведения, затребованные при назначении экспертизы, содержат искаженную информацию о компетентности эксперта. Речь идет в первую очередь о смешении понятий «стаж работы по специальности» и «стаж экспертной работы», которые не всегда совпадают. Проиллюстрируем это на примере. Негосударственный эксперт, произведший в 2003 г. по резонансному делу судебную фоноскопическую экспертизу, указал в своем заключении, что стаж его работы как эксперта-фоноскописта составляет 30 лет. Однако участвующий в судебном заседании специалист разъяснил, что этого быть не может, поскольку фоноскопические экспертизы начали производиться лишь в начале 90-х годов. К этому времени относятся и пионерские работы отечественных ученых в этой области. Тогда эксперт заявил, что он имел в виду свой стаж работы в качестве радиоинженера по звукозаписи, а на вопрос, сколько он сделал судебных экспертиз, ответил – три.
Или другой пример, эксперт окончил Институт судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «судебная экспертиза» со специализацией «судебные экономические экспертизы», но начал производить почерковедческие экспертизы, не пройдя обучения и не обладая необходимой квалификацией.
Заключения многих негосударственных экспертов, как уже указывалось выше, выполнены как отчеты о проделанной работе, часто не содержат исследовательской и синтезирующей части ссылок на методики исследования. Более того, нередки случаи, когда руководитель организации неэкспертной организации сам утверждает заключение и подписывает его вместо экспертов, в то время как согласно ст. 7 ФЗ ГСЭД при производстве судебной экспертизы эксперт независим от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Воздействие на эксперта со стороны лиц, участвующих в деле, и иных лиц не допускается. Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат уголовной ответственности (ст. 302 УК РФ). Важнейшей стороной независимости эксперта является его процессуальная самостоятельность, которая гарантируется порядком назначения и производства судебной экспертизы. Даже руководитель государственного судебно-экспертного учреждения может только рекомендовать эксперту воспользоваться тем или иным методом, средством, применить ту или иную методику, однако право выбора остается за экспертом.
Остановимся в заключении этого раздела на экспертных ошибках процессуального характера, связанных с производством комплексных экспертиз.
По одному уголовному или гражданскому делу можно производить комплекс различных судебных экспертиз, как в отношении одного и того же объекта, так и группы объектов. Однако нередко такие экспертизы назначаются как комплексные. Например, по документу, содержащему рукописный текст, подпись и печать, была назначена комплексная дактилоскопическая, почерковедческая и судебно-техническая экспертиза документов, хотя должен был быть назначен комплекс судебных экспертиз:
– судебная дактилоскопическая экспертиза следов рук на документе (не оставлены ли эти следы конкретными лицами);
– судебная почерковедческая экспертиза рукописного текста (не выполнен ли текст данным лицом);
– судебно-техническая экспертиза документов (для проверки подлинности подписи и печати).
Ошибочно рассматривать и оформлять данные исследования как комплексную экспертизу. Следственная ошибка назначения такой экспертизы как комплексной привела к процессуальной экспертной ошибке, когда эксперты, производившие никак не связанные между собой исследования, подписали общий вывод. Судебные экспертизы выполнялись самостоятельно, но были оформлены единым заключением. Несмотря на то что никаких общих вопросов эксперты не решали, все они подписали раздел «выводы», не разделяя своего участия. В результате эксперт-почерковед, не будучи компетентными в вопросах дактилоскопии, один был вызван в суд для разъяснения вопросов исследования следов рук на документе, поскольку выводы были подписаны всеми тремя экспертами. Естественно, он не мог дать ответов на поставленные судом вопросы по дактилоскопической экспертизе.
Здесь имеет место ошибка руководителя экспертного учреждения, обязанностью которого является решение вопроса о последовательности производства этих судебных экспертиз, поскольку при осуществлении экспертных исследований в объект экспертизы могут быть внесены изменения17, и контроле за оформлением заключения экспертов.
В рамках экспертизы одного рода (вида) может выполняться комплексное исследование одних и тех же вещественных доказательств с использованием различных методов, однако такое исследование не является комплексной экспертизой, даже если оно выполнено комиссией экспертов. Например, по делу о пожаре изъяты провода. Решение вопроса о том, произошли ли их оплавления в результате коротких замыканий (до или во время пожара) или термического действия пожара, осуществляется с использованием таких современных инструментальных методов, как растровая электронная микроскопия, рентгеноструктурный, металлографический и газовый анализ18. Исследование может производиться как одним экспертом-металловедом, владеющим этими методами, так и разными экспертами, каждый из которых специализируется в каком-то одном методе, но все они, являясь специалистами в области металловедческих экспертиз, владеют и другими методами исследования. Несмотря на то что в постановлениях о назначении подобных экспертиз часто фигурирует термин «комплексные», они таковыми не являются и представляют собой экспертизы с использованием комплекса методов в пределах одного и того же вида судебной экспертизы. Это утверждение коррелирует с классификаторами судебных экспертиз, утвержденными приказами различных ведомств для проведения аттестаций государственных судебных экспертов. Напомним, что в соответствии с общей теорией судебной экспертизы современные классификации судебных экспертиз осуществляются не по методам экспертных исследований, которые во многом являются общими для разных родов экспертиз, а по исследуемым объектам в совокупности с решаемыми задачами19.
Комплексной является такая экспертиза, при производстве которой решение вопроса невозможно без одновременного совместного участия специалистов в различных областях знания в формулировании общего вывода. Каждый судебный эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, производит исследования и подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Выводы, сделанные экспертом самостоятельно без участия специалистов иных областей знания, должны подписываться им единолично. Выводы по общим вопросам, которых, как правило, в комплексной экспертизе немного, подписываются всеми участвовавшими в экспертизе экспертами. При этом каждый эксперт обладает не только узкой специализацией, но и знаниями в пограничных областях наук, которые использованы при даче заключения.
Иной позиции придерживаются некоторые ученые-процессуалисты. Так, профессор Ю. К. Орлов полагает, что «комплексная экспертиза является разновидностью комиссионной. Именно так она определена Федеральным законом “О государственной судебно-экспертной деятельности” – ст. 22, 23»20. Он справедливо указывает, что признаками комплексной экспертизы являются участие в ее производстве экспертов разных специальностей и дача ими совместного заключения на основе не только лично проведенных исследований, но и по результатам исследований, проведенных другими экспертами. Но далее Ю. К. Орлов указывает, что «в составлении синтезирующей части и формулировании общих выводов могут принимать участие не все эксперты, а только эксперты широкого профиля, компетентные в общем предмете исследования. Эксперты узкого профиля, не компетентные в этом предмете, после формулирования ими промежуточных выводов в дальнейшем исследовании не участвуют». Что имеется в виду под широким профилем, нам неясно. В общей теории судной экспертологии такое понятие отсутствует. Нет его и в уголовно-процессуальной науке. Скорее всего, речь идет о разных экспертных специализациях.
Ю. К. Орлов приводит пример из области почвоведческой экспертизы: «если в почве обнаруживаются инородные объекты (ГСМ, лакокрасочные материалы, уголь, известь и т. п.), то к экспертизе подключаются соответствующие специалисты, которые исследуют эти объекты и дают лишь промежуточные выводы, а в формулировании конечных выводов не участвуют, поскольку в общем предмете исследования – почвоведении – не компетентны. Эти их выводы используются затем экспертами-почвоведами в качестве одного из идентификационных признаков». Но в данном случае очевидно, что исследование включений в почву должно производиться в рамках отдельных судебных экспертиз ЛКП, ГСМ и пр. В предмет судебной почвоведческой экспертизы не входит изучение вышеуказанных включений в почву. Пример явно неудачен. Здесь имеет место такой же комплекс экспертиз, как и в следующем примере, приведенном Ю. К. Орловым, когда «на исследование направляется документ и ставятся вопросы, на этом ли принтере он отпечатан, этой ли печатью оставлен оттиск и этим ли лицом выполнена подпись. В данном случае производятся три отдельные экспертизы, никак между собой не связанные».
Полагаем, что оба примера описывают аналогичную ситуацию. Ведь цель назначения экспертиз в последнем примере – идентификация документа, а цель комплекса экспертиз, связанных с почвой, – идентификация почвенных наслоений. Полученные по каждому из указанных объектов идентификационные признаки могут составлять совокупность, необходимую для формулирования экспертного вывода только по каждому объекту в отдельности. Суммирование идентификационных признаков, относящихся к разным объектам, ничего не добавляет при идентификации этого объекта (подписи, печати, принтера). Естественно, что, по сути, подобная экспертиза комплексной не является и может быть заменена комплексом экспертиз.
Другое дело, если при производстве судебной автотехнической и транспортно-трасологической экспертизы решается диагностическая задача о механизме дорожно-транспортного происшествия. Объектом исследования в данном случае является само место ДТП и находящиеся там транспортные средства. Эксперты трасолог и автотехник, исследуя место ДТП, решают диагностические и идентификационные задачи, каждый в области своего рода судебных экспертиз, а затем формулируют общий вывод о механизме ДТП, поскольку обладают специальными знаниями на стыке этих экспертных специализаций, а нередко оба и свидетельствами на право производства и автотехнических и транспортно-трасологических экспертиз. Заметим, что при решении данной задачи могут быть привлечены и другие эксперты, например металловед, специалист в области лакокрасочных покрытий или ГСМ, но они в формулировании конечного вывода не участвуют, а подписывают только свою часть заключения. Эксперт-металловед, исследуя, например, причину излома ступицы колеса автомобиля, устанавливает, что имел место хрупкий излом или усталость металла. Однако решение вопроса о причинно-следственной связи излома и возникновения ДТП находится в компетенции эксперта-автотехника и эксперта-трасолога. Поэтому заключение металловеда может быть оформлено как отдельная экспертиза, так и как «вложенная» часть комплексной экспертизы. В этом случае эксперт для обеспечения возможности оценки и использования в доказывании промежуточного вывода должен объяснить в заключении, какую именно информацию он дает для использования ее другим экспертом в последующем исследовании.
Серьезной экспертной ошибкой является интерпретация и разъяснения одним экспертом результатов исследования другого в одном и том же заключении, если, как пишет, например, Ю. К. Орлов, вывод эксперта понятен только другому эксперту. На практике бывают случаи, когда легковесные, не подкрепленные исследованиями выводы даются в псевдонаучной форме, затрудняющей понимание или попросту делающим его невозможным.
Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам».
[Закрыть]
Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы (судебная экспертология): учебник. 2-е изд., перераб. и доп.; под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Норма, 2016.
[Закрыть]
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»: при решении вопроса о назначении экспертизы суд может привлечь специалиста (например, для дачи консультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, формулирования вопросов эксперту) // СПС «КонсультантПлюс».
[Закрыть]
Постановление Пленума Верховного Суда № 28 от 21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам» (ред. от 29.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
[Закрыть]
Название изменено.
[Закрыть]
Россинская Е. Р. Комплексные судебные экспертизы: генезис и современное состояние // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2023. – № 12. – С. 65–73.
[Закрыть]
Россинская Е. Р. Рентгеноструктурный анализ в криминалистике и судебной экспертизе. – Киев, 1992.
[Закрыть]
Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы (судебная экспертология): учебник.
[Закрыть]
Орлов Ю. К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учеб. пособие. – М.: Проспект, 2016.
[Закрыть]