XX век как жизнь. Воспоминания
Tekst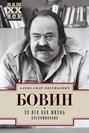


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 920 str. 18 ilustracji
- Kategoria: literatura faktu, reportaż, biografia, literatura faktu
Хабаровск. Вольница
В конце 1941 года отца перевели в Хабаровск. Если я не ошибаюсь, начальником узла связи штаба Дальневосточного фронта. В декабре отправились всем семейством: папа, мама, я и годовалая сестренка Галя. Плюс сопровождающий. На одной из остановок, кажется Бикин, объявили, что поезд будет стоять три часа. Я отпросился погулять. Когда вернулся, поезд уже ушел. На вокзале меня дожидался оставленный в Бикине сопровождающий. Через несколько часов подошел военный состав из Владивостока. Внезапно повезло. Нас посадили в вагон, в котором когда-то ездил сам Блюхер. Вагон шел пустым. Запомнились зеркала, мрамор, полированный стол с инкрустацией. Запомнились вкусные мясные консервы, в то время еще не американские.
В Хабаровске встречал отец. Встречал сурово…
Пять лет в Хабаровске были до предела заполнены взрослением по всем азимутам. В военном городке мой постоянный круг общения был ограничен десятком пацанов из семей папиных сослуживцев. В краевой столице горизонты другие: и двор, и наша улица, и улицы соседние. Больше знакомств, больше разговоров, больше ситуаций, требующих выбора, решений. Начало прорезываться собственное «я». Сначала почти незаметная граница между этим самым «я» и остальным миром становилась все более четкой, видимой, ощутимой…
Жили мы практически в центре города в большом (этажей шесть, кажется, но без лифта) доме. Две комнаты. Вода (без ванной) и туалет. Отопление центральное, но на кухне плита, которую нужно топить дровами. Никаких просторов. Городской двор. Но были сараи (без кур). Помимо дров и всякого барахла в сарае стояла здоровенная бочка. К зиме она заполнялась квашеной капустой. При обычных для Хабаровска тридцатиградусных морозах капуста превращалась в камень. По мере кухонных надобностей меня посылали в сарай, чтобы топором откалывать от капустного монолита потребное количество продукта. И еще в сарае висели рыбины соленой кеты. Соленая отварная кета с картошкой – наш типичный обед военной поры. Причем вкуснейший, изысканный обед! Картошка в сарае зимовать не могла, поэтому для нее в квартире был отгорожен специальный угол.
Рядом с нашим домом располагалась школа военных музыкантов. Как бы музыкальные юнги. Мы с ними и дружили, и дрались, и табаком делились (первую свою затяжку я сделал, еще будучи учеником первого класса). В историю нашей семьи школа юных военных музыкантов вошла со словами «геройский хлеб».
Курсанты должны были регулярно готовить стенды, посвященные войне. Для этих стендов позарез требовались фотографии Героев Советского Союза. А мы выписывали «Огонек», где в каждом номере помещались несколько таких фотографий. Мама вырезала их и меняла у курсантов на кусочки черного хлеба, которые они таскали из своей столовой. Я протестовал и даже плакал. Обидно было отдавать «героев». Но мама не считалась с моими обидами. Она кормила нас.
Для ясности. Отец уже был майором. Но того, что он получал, не хватало на четыре рта. Еле-еле сводили концы с концами. Самое голодное время – до осени 1942 года. То есть до первого урожая с первого огорода. Дальше пошло полегче.
Огород – это мой трудовой фронт. Вместо калашникова – лопата. Плюс еще каждое лето на месяц посылали в колхоз. Картошка – до горизонта. И, значит, – тяпка. Так что натяпался вволю[2].
Тогда телевизоров не было. Войну не видели. О войне читали и слышали. У нас на стене отец закрепил большущую карту европейской части Союза. И согласно сводкам Совинформбюро мы три года двигали флажки сначала с запада на восток, до Сталинграда и Каспийского моря, а потом – с востока на запад, до Берлина. Это – на всю жизнь. Закрываю глаза и вижу ту карту с линией флажков… И еще почему-то вижу книгу знаменитого немецкого генерала Гудериана «Внимание, танки!». Она была переведена на русский язык в серии «Библиотека офицера». К сожалению, предупреждение Гудериана не было воспринято достаточно серьезно. Впрочем, это отразилось не на судьбе Гудериана, а на цене его поражения.
После прорыва блокады Ленинграда к нам добралась папина мама – баба Саня. Худющая и больная. Выздоровела. Но несколько месяцев прятала у себя под подушкой, рядом с Евангелием, кусочки черствого хлеба, какие-то остатки пищи. Комплекс долго голодавшего человека.
Победу я встретил, находясь под домашним арестом. Арест наложил на меня отец. И правильно сделал. 1 мая 1945 года я первый раз (не последний, увы!) напился. Пили дома у приятеля (помню, Славка Крапан), мама которого работала где-то по буфетной части. Было много красивых бутылок. В общем-то мы собирались пойти в театр на «Свадьбу в Малиновке». Но «собирались лодыри на урок, а попали лодыри на…»… Домой я добрался на автопилоте и без пальто. Пальто по тем временам – это вещь. Поэтому положили меня на пол и обливали холодной водой. Признание не исторгли. Однако нашли номерок от гардероба. Оказывается, мы таки пришли в театр, разделись, были перехвачены контролерами и ушли не одеваясь. Мама сбегала в театр, и пальто было спасено. Вот за это художество отец запретил мне две недели покидать стены родного дома.
А тут победа! Арест был снят.
Победа над Германией для нас означала приближение войны с Японией. Все знали, что эта война неизбежна. Все были уверены (но не уверенностью 1941 года), что победим. Тем более что на Тихоокеанском театре союзники уже почти добили Японию.
На улицах Хабаровска все чаще можно было встретить солдат и офицеров, обвешанных орденами и медалями. Это означало, что переброска войск с запада на восток идет усиленными темпами. 9 августа – это день моего рождения – мы, выполняя обещание, которое Сталин дал Рузвельту и Черчиллю, начали войну.
О том, почему отец не участвовал в войне, я рассказывал.
В Хабаровске война не чувствовалась. Кажется, 9 августа была одна воздушная тревога.
Зато хорошо чувствовались результаты войны. Из Маньчжурии везли все, что можно. Продукты и одежду в основном. Мама перешивала для меня японские гимнастерки и кителя. Цвета хаки. Помню японских пленных, они строили…
Посещал, как положено, школу. Нравы были простые и суровые. Когда я первый раз появился в новой школе, в меня ткнули ножом и порезали овчину (так тогда именовались дубленки). Обучение было то раздельным, то совместным. Переводили из школы в школу, за пять лет сменил четыре школы. Учился я без натуги, легко. Но вот учителя не помню ни одного.
Но хорошо помню старого-престарого еврея-сапожника, который в кружке при школе № 35 учил желающих сапожному делу. Мне удалось освоить ремонт валенок. Не знаю, как сейчас, но тогда зимой все были в валенках или бурках. Так вот, накануне зимы мама выстраивала в коридоре все наши валенки, и я должен был приводить их в порядок.
В 1944 году вступил в комсомол. Без эмоций. Потому что все вступали.
В восьмом классе произошло событие, которое, наверное, повлияло на мой жизненный путь. Мне в руки попался растрепанный том Соловьева, начало XVI века, Смутное время. Открыл и не мог закрыть, пока не дочитал. Что-то во мне произошло. Мне стало интересно узнавать, знать, понимать.
Тогда же у нас дома появился 1-й том сочинений Сталина. Там была одна из ранних работ Сталина «Анархизм или социализм?». Философский детский сад. Это я теперь вижу. А тогда с трудом продирался сквозь дебри непонятных слов. Обложился словарями, делал выписки, чуть ли не наизусть учил. Одолел все же. Вот так с тех пор и одолеваю…
И Соловьев, и Сталин – все это было помимо школы, независимо от школы. Но как-то, видимо, отражалось на моих ответах по истории и литературе. На сочинениях. В них что-то озадачивало учителей. Они не были лучшими (или худшими) по принятой шкале, они были другими.
А еще вдруг обнаружились девочки. Не менее интересные, чем Сталин или Соловьев. Правда, моя первая любовь случилась еще до школы. Ее звали Лена Селяева. Родители наши дружили, ну и мы старались не отставать. Потом – большой перерыв. А с восьмого класса началось обучение танцам. Дома, под патефон. «Брызги шампанского», «Листья падают с клена», «Риорита» и прочие шлягеры тех лет. Моей главной учительницей была Валя Агафонова. Тут я был круглый отличник. Более или менее регулярно, выпроваживая родителей в гости или в театр, устраивали вечеринки. Девчонки что-то готовили, мужская половина обеспечивала вино. Танцы до упаду. Допускались поцелуи.
С девочками связан первый, пожалуй, выход за пределы «морального уровня». Мы, то есть несколько оболтусов, составили список девочек нашего класса и выставили им оценки по нескольким номинациям. Точно не помню, но примерно так: ум, красота, фигура, характер. От единицы до пятерки. Список пустили по классу. Двоечницы обиделись и пошли к директору школы. Подключили районо. Поднялся шум. Выручило то, что среди оболтусов находился сын первого секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Володя Назаров. Шум постепенно затих.
Кстати, о птичках. Назаровы жили в роскошном крайкомовском особняке недалеко от школы. Шла война. Растущие организмы требовали пищи, а ее не хватало. Так Володя иногда заводил через черный ход весь класс куда-то в район кухни, и нас там кормили. И еще, кстати. Рядом располагался особняк уполномоченного НКВД по Дальнему Востоку С.А. Гоглидзе. Эту фамилию все произносили шепотом. Почему – узнал значительно позднее.
Но вернусь к танцам. Очень любил. В конкурсах участвовал, призы брал. Коронный номер – вальс-бостон. Или фигурное танго. Летом танцевали на танцплощадках. Нечто вроде загона: настил из досок и ограда. Бери в кассе билет – и вперед. Я ходил в сад Дома офицеров. Покупал месячные абонементы. И каждый вечер (с семи часов) как на работу. Танцевали (стандартный набор – вальс, танго, фокстрот). Выясняли отношения. Порой дрались из-за девчонок.
Занимался гимнастикой. С нынешней не сравнить. Тогдашний 1-й разряд теперь и на 3-й, наверное, не потянул бы. Наш тренер был сторонником силовой гимнастики. Качали мышцы. Потолок – 3-е место на краевых соревнованиях среди мальчиков.
Конец последнего хабаровского лета провел на берегу Амура в пионерском лагере в качестве старшего вожатого. По возрасту я не подходил. Но, видимо, учли уже явно не школьную фигуру. И слухи ходили: «Он Сталина читает!» Недалеко от лагеря находилась база Краснознаменной Амурской флотилии. Военные моряки, значит. Они кружили вокруг лагеря, проникали на территорию и буквально охотились на наших вожатых (женского пола) и девиц из первого отряда. Одна из главных моих задач состояла в том, чтобы пресекать наглые посягательства. До рукопашных доходило. Не помогало. Ибо не только моряки рвались к девицам, но и девицы к морякам. Да я и сам погряз в скоротечных романах. Вздыхал около Лиды Шарахиной (с ней много лет спустя судьба свела в Москве). Целовался с Корой Бачининой. А медицинская сестра, которую звали Фея и которая училась на третьем курсе мединститута, угощала спиртом из аптечки и учила уму-разуму.
Дома, в семье, все шло своим чередом. Отец был вечно на службе. Мама была занята Галей, младшей сестрой. Меня держали на очень длинном поводке. В девятом классе было легализовано курение. Только отец просил при нем с сигаретой не возникать. Поясняю. Тогда в Союзе курили папиросы. Сигареты появились во время войны, американцы снабжали нашу армию. Отец, заядлый курильщик, получал в месяц одну-две упаковки по сто сигарет каждая. Пока я был в нелегальном режиме, приходилось брать иголку и аккуратно (на уголках) вытаскивать из каждой упаковки несколько сигарет. Потом отец стал делиться.
Особых огорчений я не доставлял. Иногда, но редко, попадал в милицию. Драки и разборки мелкого масштаба. Разгуливал в обычной уличной «форме» (косил, сказали бы сейчас, под блатного). На голове – кепочка-восьмиклинка с утопленным козырьком и маленьким «громоотводиком». На ногах – мягкие, собранные гармошкой сапожки-«джимми», брюки напуском. Во рту – золотая (в смысле – желтая) фикса. Обязательно – треугольник тельняшки. Перед возвращением домой фиксу снимал.
Мои школьные дела не требовали вмешательства родителей. Меня не надо было заставлять делать уроки. Отметки я приносил вполне приличные.
Родителей трудно назвать интеллигентными людьми. Они мало читали. Впрочем, сколько я помню, всегда выписывалась «Роман-газета». Так что были в курсе литературных новинок. Не интересовались музыкой, живописью, театром. Во всяком случае, я не помню каких-либо разговоров на эти темы.
Меня специально не воспитывали. Просто жила семья, где мама и папа были умными, добрыми, порядочными людьми.
Отец был очень сдержан, строг, аккуратен до педантичности. «Если я говорю в девять часов, – втолковывал он мне, – то это не значит без пяти девять или три минуты десятого. Это значит именно девять». И втолковал. Никогда не опаздываю. И еще втолковал, чтобы каждая вещь лежала на своем месте. Поэтому не приходится искать ключи, очки, нужные книги и т. п. Почти не пил. Держал себя в хорошей физической форме.
Мама была другой. Душевная, веселая, заботливая. Мастерица срезать острые углы. Вряд ли ее радовало, что во мне воспроизводилась борисовская порода: любовь к застолью («кабацкая ты душа», – ворчала она), увлечение нежным полом, некая расхристанность, стремление нарушить меру там, где этого делать не следовало бы. И еще – великолепная хозяйка. Прекрасно готовила и шила. Ее хлопотами существовал дом, в котором всем было хорошо.
Родители были максимально внимательны друг к другу. Наверное, между ними возникали какие-то нескладушки. Но они возникали и гасли там, куда дети не допускались. Думаю, что это была одна из тех редчайших семей, где муж и жена никогда не обманывали друг друга.
Заряд здравого смысла и сердца, простая, честная жизнь, доверие и уважение друг к другу – вот в такой атмосфере, в таком духовном климате я рос, превращался из ребенка в юношу, в человека. Оглядываясь назад, я не могу сказать, что полностью сохранил в себе то наследство, которое передали мне родители. Что-то ушло, было разъедено суетой и мельтешением, в которые приходилось погружаться. Были эпизоды, вспоминая о которых я до сих пор краснею. Но в целом заряд, полученный от родителей, спасал меня всю жизнь.
И вот еще что. В доме никогда не велось каких-либо политических разговоров. Точнее, политических разговоров с фрондерским оттенком. При мне, во всяком случае. Не знаю, насколько это была осознанная установка. Но выполнялась она неукоснительно. Возможно, это затормозило мое политическое созревание. Но зато отсрочило на десяток лет мучительные раздумья и сомнения…
Горький. Каток вместо танцплощадки
Из Хабаровска мы уезжали в начале января 1947 года. Отец получил назначение в Горький. Часть, которой он командовал, располагалась в кремле. Там мы и жили. Прямо в казарме. Сначала в одной огромной комнате. Половина – наше семейство, другая половина – семейство папиного заместителя. Позже заместитель перебрался в отдельную комнату, а нам прирезали вторую, маленькую. Это были мои личные апартаменты. С отдельным входом. И собственным ключом.
Определили меня в мужскую школу № 14. Пешком минут тридцать хода. Притирка к классу прошла без проблем. Проблема находилась вне школы. В Горьком, конечно, тоже танцевали. Но зимой светская жизнь, свидания и ухаживания перемещались на катки. Мой хабаровский опыт по этой части был примитивен. Катков не помню. Вместо катков использовались улицы, покрытые утрамбованным снегом. Прикрутить веревкой коньки (снегурки) на валенки, в руке железный прут с крючком на конце, прицепиться этим крючком к грузовику – и полный вперед!
А в Горьком прекрасные катки, музыка, все залито светом. У большинства – гаги (вроде хоккейных), у пижонов – норвеги (гоночные). И не просто катаются, а выделывают всякие штуки. Ничего такого я делать не умел. Пришлось срочно учиться. Обзавелся гагами, и каждый день сразу после уроков (еще светло, и катки почти пустые) – на лед. Театр одного актера. Огромное удовольствие доставлял мальчишкам. Вволю нападался, но недели через три появился вечером на катке. Горьковские навыки потом пригодились в Москве. Освоил и ЦПКиО, и Сокольники, и Лужники…
В Горьком меня накрыла первая любовь. Звали ее Светлана Конюхова. Где с нею встретился – не помню. Помню, где жила. Двухэтажный деревянный дом, халупа по-нынешнему. Хотя отец ее был каким-то чином в КГБ. Помню дачу на берегу Волги, куда я повадился приезжать. Но зря. У Светланы, как она сама мне сообщила, развивался бурный роман на другом направлении. В порядке самоутешения я занялся охмурением одновременно целой серии девиц (одна была даже кассиршей в гастрономе). Оттягивало, но не помогало.
Промежуточный итог был подведен 18 мая 1948 года. Дату помню точно, ибо за два дня до выпускного сочинения. Не знаю, как сейчас, но тогда все десятые классы писали сочинение 20 мая. Сюжет был прост и традиционен. Некто Виктор Филиппов, учившийся в параллельном десятом классе, сказал какую-то гадость о предмете моих страданий. Перчатку, по понятным причинам, я бросить ему не мог, вызвал за школу и дал по морде. К моему удивлению, он утерся и ушел. И стал, как мне передали, брать уроки бокса. 18 мая уже он вызвал меня за школу. Зрители образовали круг, и битва началась. Дрались мы минут тридцать. Кончили, потому что устали бить друг друга. Выдохлись. Умылись – и по домам.
Видок у меня был тот еще. Но у Виктора – хуже. Он был выше меня, так что я бил снизу вверх, по физиономии. А его удары шли сверху вниз, доставалось моей голове, и ссадины скрывались под могучим волосяным покровом. Мама его упала в обморок, увидев сыночка. Моя мама в обморок не упала. Во-первых, ее предупредил дежурный, когда я прошел пост. А во-вторых, мои повреждения были действительно менее заметны.
Оставшиеся до сочинения полтора суток я провел во всяких примочках. Сочинение написал на «отлично».
Виктора Филиппова я потом встречал в Москве. Повспоминали.
У Светланы не сложилась жизнь. Встречались с ней несколько раз – и в Горьком, и в Москве. На руинах.
Сохранилась ее фотография с надписью: «Есть два похожих слова – «помнить» и «вспоминать». Я хочу, чтобы ты меня помнил».
Последний раз был в Горьком в сентябре 2001 года. Проехал мимо ее дома. Зашел за школу, постоял на месте майского побоища. Значит, помню…
Через Горький прошла и там же кончилась музыкальная полоса моей жизни. Чтобы я меньше болтался летом без дела, отец определил меня в курсантский духовой оркестр. На должность барабанщика. Здоровый барабан и медные тарелки – вот мое хозяйство. Для лучшего звучания барабана перед каждой игрой нужно было поджигать газету и водить огнем у барабана, кожу натягивать.
Были мы почти на хозрасчете: играли в пионерских лагерях, домах отдыха, санаториях, которых было полно в окрестностях Горького. Платили нам натурой (кормили то есть) и деньгами. Иногда поили. Играли в основном танцы.
Когда начался учебный год в школе, мы подпольно собрали так называемый трио-джаз: ударные (теперь уже не большой барабан, а маленький, правда, без нынешних наворотов), скрипка и аккордеон. Плюс девочка-певица. По субботам и воскресеньям в той же зеленой зоне Горького зарабатывали танцами. В принципе джазы тогда не приветствовались. Но нас терпели. До поры до времени. Гонения начались тогда, когда в школе возник настоящий джаз и нагло заявил себя в городском конкурсе школьной самодеятельности. В конце концов джаз был реабилитирован. Но к тому времени я уже перенасытился музыкой и отрулил в сторону.
В классе дела шли своим чередом. Подобралась теплая компания из четырех человек. Андрей Сергиевский, Марат Кочаровский (кличка – Боцман), Стас Севастьянов (кличка – Хряк) и я. Вместе учиняли всяческие баламутства. Ходили по каткам и женским школам. Иногда ударяли по пиву и портвейну «Три семерки» (он же – «Три топорика»). Чуть ли не двадцать раз смотрели «Девушку моей мечты». В порту разгружали муку и сахар – не будешь же у мамы просить деньги на пиво.
Образовали общество «Друзей тянучки». В бумагах обнаружил нечто вроде рекламной листовки. Она выглядела так:
КАЖДЫЙ,
КТО ВСТУПИТ В ОБЩЕСТВО
«ДРУЗЕЙ ТЯНУЧКИ»,
ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ
ВКУСИТЬ НАЯВУ СЛАДОСТЬ
РАЙСКОГО БЛАЖЕНСТВА И ОТВЕДАТЬ
ВКУСНЕЙШИХ!!!
СЛАДЧАЙШИХ!!!
АРОМАТНЕЙШИХ!!!
ТЯНУЧЕК.
ЛУЧШИХ ТЯНУЧЕК
НЕ БЫЛО И НЕТ!
ГОТОВ ТЯНУТЬ
ДО СТАРОСТИ ЛЕТ!
С п е ш и т е з а п и с а т ь с я.
Мы действительно в здоровенной кастрюле варили тянучечную массу и делали из нее тянучки. Каждый, кто собирался вступить, должен был прочитать неизвестное нам стихотворение. Потом большая ложка горячего полуфабриката выливалась ему на голову.
Заседания общества – это чаепитие и разговоры до изнеможения.
Андрей окончил Горьковский университет и в 35 лет был назначен директором Горьковского исследовательского физико-технического института при ГГУ, а через несколько лет стал директором Научно-исследовательского института прикладной математики и кибернетики. Директорствовал до пенсии. Потом просто работал. Инсульт сгубил его 14 мая 2000 года.
Марат, уже будучи взрослым, продолжал придумывать жизнь, искать нестандартные варианты. Как-то, находясь на природе, пытался спрятаться от дождя не в примитивной палатке, а в пещере, и был засыпан осевшей породой.
Стасика болезнь одолела.
Мне повезло. Еще жив и даже помню.
Весь десятый класс я находился в каком-то шизоидном состоянии. С одной стороны, мне взбрело в голову стать дипломатом. Что послужило первотолчком, не могу вспомнить. Не исключаю, что трехтомная «История дипломатии», которую я штудировал как раз в десятом классе. Но, с другой, – взрывы в Хиросиме и Нагасаки сделали модной физику, а значит, и математику. Физикой занимался по учебникам для вузов. Математику одолевал по известному курсу Фихтенгольца «Математика для инженеров», который обнаружил у отца. Любил всякие замысловатые задачки, которые публиковались в журналах для учителей («Математика в школе» и «Физика в школе», так они, кажется, назывались).
Первые и единственные фамилии учителей, которые остались у меня в памяти: Гусак, директор нашей школы, он преподавал физику. Вызывал меня в свой кабинет, вручал дореволюционный задачник по физике и требовал, чтобы я решал подряд штук по двадцать. «Когда решишь – пойдешь домой!» И я решал – к нашему общему и вящему удовольствию. Математику преподавала Мария Васильевна Самсонова. И тоже тренировала мои мозги.
Помню еще преподавателя логики. Как звали, забыл, а человека помню прекрасно. Фронтовик. С орденами и без руки. Он пытался учить нас логике жизни. Тогда это было почти невозможно. Но, повторяю, он пытался.
В десятом классе, если не раньше, начинаются разные завихрения по поводу распределения медалей. Когда я возник, в нашем классе все было предопределено. Золотая медаль предназначалась вечному отличнику, кандидату в мастера по шахматам Борису Архангельскому. Такой был аккуратный мальчик. Всеобщая надежда. Но поскольку мне ужасно не хотелось сдавать экзамены в вуз, нужно было получить золотую медаль. И получил. За все приходится платить. По указанию школьного начальства пришлось произносить благодарственную речь на собрании выпускников Горького. Это была первая сочиненная мною речь. Но – для себя.
Выпускной вечер как-то не запомнился. Зато в памяти выпускной день. Для меня и для Сергиевского мама наварила пельменей. По сто штук на нос, точнее, на рот. И мы управились. Сейчас даже поверить трудно. Но молодые, растущие организмы…
А от экзаменов я все-таки не избавился. По просьбам неуверенных в себе одноклассников сдавал за них экзамены (физика и математика) в пять горьковских институтов. Пижонил: «Гарантирую, – говорил, – пятерки». Переклейка фотографий, печати – все это меня не касалось. Получал бумагу и отправлялся в назначенный институт.
Дважды возникали нештатные ситуации.
Первая – в университете. Мой подшефный письменную математику сдавал сам, но потом попросил меня сдать устный экзамен и еще физику. Ладно, буду выручать. Беру билет. Элементарно. Иду к доске практически без подготовки. Отвечаю. Начинаются вопросы. Три доски исписал. Уж надоело. Оказывается, мой приятель еле-еле на тройку написал. И когда я начал бодро тараторить, преподаватели подумали, что шпаргалка. Пришлось с ходу придумать, что тогда переутомился, голова очень болела, плохо соображал. Обошлось.
Вторая – в Институте инженеров водного транспорта. Взял билет. Сижу, жду очереди. И вдруг в аудиторию входит и садится рядом с экзаменаторами отец знакомой мне девочки. Я бывал у них дома, даже чай пил со всем семейством, включая папу (он же – доцент этого института). Что делать? Закрыл лицо ладонями, мотаю головой, пропускаю одну очередь за другой. Так и сидел, пока доцент не ушел. Достали меня потом вопросами, но отбился.
Взаимовыручка. Последний раз я занимался этим богоугодным делом в Москве, когда учился в аспирантуре философского факультета МГУ. Сдавал экзамены за брата Жору (брат был двоюродный, только что демобилизовался) в электротехнический техникум. По всем предметам (кроме химии). Тоже был казус. Для сочинения дали четыре тетрадных листика. Исписав их, я попросил добавку. «Не надо, – сказала юная преподавательница. – Чем больше напишете, тем больше будет ошибок». Я скромно заметил, что ошибок не делаю. Она молча протянула целую пачку листов. Пришлось ошибок не делать…
Летом 1948 года отправился я в Москву учиться на дипломата. Прямо в Дипломатическую академию. Дежурный мне вежливо разъяснил, что в академию принимают только с высшим образованием. На мой вопрос ответил: в принципе с любым, но лучше с юридическим или историческим. После чего я отправился на юрфак МГУ. Сдал документы. Выдержал полагающееся медалисту собеседование (про план Маршалла интересовались). Судьба выступила в лице общежития. С общежитием у нас туго, уведомили меня. А в Ростове-на-Дону, откуда вы приехали, есть университет, а в нем – юрфак, а на юрфаке – отделение международного права. Вам будет там даже удобнее.
Поясняю. В начале лета отец получил назначение в штаб Северо-Кавказского военного округа, который находился в Ростове-на-Дону. Поэтому в анкете, которую я сдал в МГУ, был указан уже ростовский адрес.
Возможно, если бы я стал сопротивляться, нашлось бы и общежитие в Москве. Но не были мы тогда приучены сопротивляться, «качать права». И поэтому покорение Москвы было отложено на восемь лет.
