Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». 1943
Teksti czytaj za darmo:
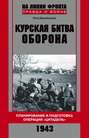


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 770 str. 11 ilustracji
- Kategoria: wojskowość, siły specjalne, literatura faktu, historia powszechna
Вместе с тем ценой за это стали жизни и судьбы более 994 тысяч советских военнослужащих, осужденных в период 1941–1945 годов (в том числе за дезертирство – более 376 тысяч), из которых около 423 тысяч были направлены на фронт в штрафные подразделения (среднемесячная убыль личного состава здесь достигала 52 % от численности подразделения), около 437 тысяч отбывали наказание в местах заключения, а 135 тысяч – расстреляны[144]. Почти миллион солдат и офицеров понадобилось наказать, чтобы сделать Красную армию более или менее боеспособной, а сколько родных и близких этих людей были репрессированы в тылу, так и остается до настоящего времени точно неизвестным.
Как отмечает Фридрих Меллентин[145], коммунистическим органам удалось создать в русской армии то, чего ей недоставало в Первую мировую войну, – железную дисциплину. Подобная, не знающая жалости военная дисциплина, которую не выдержала бы ни одна другая армия, превратила неорганизованную толпу в необычайно мощное орудие войны; она явилась решающим фактором в достижении огромных политических и военных успехов Сталина.
Действительно, для сравнения, германское командование с самого начала Второй мировой войны также использовало и даже расширяло практику репрессий в отношении своих военнослужащих, чтобы укрепить дисциплину и повысить боеспособность армии, однако в испытательных частях и испытательных батальонах немецкого вермахта (аналоги советских штрафных подразделений) служило, по разным оценкам, всего от 82 до 110 тысяч человек, к смертной казни было осуждено менее 66 тысяч военнослужащих (безвозвратные небоевые потери германских вооруженных сил в ходе Второй мировой войны составляют 191 тысячу человек, из которых 125 тысяч умерло от заболеваний, а остальные погибли в результате несчастных случаев, покончили жизнь самоубийством или были казнены по приговорам военных судов[146]; при этом, по материалам журнала «Шпигель» от 29 июня 2007 года, за время войны немецкими военными судами было приговорено к смертной казни за измену и дезертирство около 30 тысяч солдат и офицеров вермахта), число отправленных в концентрационные лагеря из вермахта в период с 1938 по 1944 год насчитывало около 1 тысячи военнослужащих, а количество отбывающих наказание в полевых штрафных лагерях вермахта к 1 октября 1943 года достигло около 27 тысяч человек[147]. Следовательно, максимальное число осужденных немецких солдат и офицеров не превышало 200 тысяч человек, что в абсолютном выражении почти в 5 раз меньше, чем в Красной армии. Принимая во внимание, что в Германии за годы войны в вооруженных силах состояло около 21,1 миллиона человек, а в СССР – 34,5 миллиона человек (с учетом уже служивших до начала войны)[148], число осужденных немецких солдат и офицеров составляет около 1 % от общего количества мобилизованных, а советских – 3 %.
С другой стороны, нельзя также не учитывать, что кадровое советское офицерство – эта, по мнению историка и журналиста Ю. Мухина[149], в большинстве своем паразитическая прослойка общества, пригодная только для достижения карьеристских целей в условиях мирной службы и парадов, постепенно заменялась офицерами «по призванию», выходцами из различных социальных слоев, разных профессий, гораздо более подходящих для командования и прошедших естественный отбор в боевых условиях (например, маршал Баграмян указывает[150], что среди офицеров одной из лучших дивизий 11-й гвардейской армии Западного фронта своими выдающимися качествами отличался командир полка Николай Харченко, до войны работавший зоотехником). Новое офицерство, которое с 1943 года составляло на фронте большинство среди младшего и среднего начальствующего состава Красной армии, обеспечило лучшее качество командования и более высокий уровень доверия со стороны солдат, в то время как немногие остававшиеся кадровые офицеры оседали на высших командных должностях, в крупных штабах или тыловых органах управления[151]. Причем эти так называемые «кадровые» советские офицеры не имели даже преимущества в специальном военном образовании. Например, в 5-й гвардейской танковой армии, соединения которой оказали серьезное влияние на ход и результаты Курской битвы, в оперативном отделе штаба армии только его начальник имел высшее образование, а среди двадцати командиров танковых, механизированных и мотострелковых бригад всего трое закончили военные академии, в то время как большинство остальных получили подготовку на различных краткосрочных курсах усовершенствования командно-начальствующего состава[152].
Учитывая все изложенное, это означало, что основное влияние на исход борьбы на советско-германском фронте в конце 1942 года стали оказывать исключительно военные факторы. Однако в военном аспекте вслед за стратегией блицкрига перестала оправдывать себя и оперативно-тактическая схема блицкрига – глубокие прорывы с выходом на коммуникации противника подвижных танковых и механизированных соединений, успешно осуществлявшиеся благодаря тесному взаимодействию на поле боя моторизованных и механизированных артиллерийских и пехотных частей, танков и авиации. Немецкая армия за первые полтора года войны на Восточном фронте показала все оригинальные оперативные и тактические схемы и решения, нарабатывавшиеся германцами в течение столетий и в полной мере реализованные благодаря техническим инновациям и высокой боевой выучке вермахта. После этого планы и действия немецких военачальников перестали быть неожиданными для советского военного руководства и фронтового командования (в мемуарной литературе советских «полководцев-победителей» было принято снисходительно упоминать о шаблонном мышлении немецкого генералитета), а разработать что-либо принципиально новое в области оперативного искусства германский Генеральный штаб не сумел, да и вряд ли это было возможно. Соответственно органы управления Красной армии перестали допускать те ошибки, вынуждаемые оперативными и тактическими комбинациями немцев, которые могли принести противнику крупный успех оперативного или даже стратегического характера, как это было в начале войны. Как следствие, решающее значение для хода и результатов боевых действий приобрели количественные факторы соотношения сил и средств, так что военное поражение Германии стало только вопросом времени.
Благодаря прочности тыла и жестоким мерам по укреплению трудовой и воинской дисциплины Красная армия, потерпевшая в 1941–1942 годах ряд поражений, катастрофических для любой европейской армии любой европейской страны, не развалилась окончательно, а постепенно восстановила свою боеспособность и продолжала сопротивление, накапливая боевой опыт.
Высшее военное руководство Германии осознало крах своей наступательной стратегии на Восточном фронте после битвы под Сталинградом. 1 февраля 1943 года, на совещании в ставке главного командования вермахта, Гитлер вынужден был отметить, что «…возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует»[153].
Соответственно, по мнению известного английского военного специалиста генерала Джона Фуллера (John Fuller)[154], в марте 1943 года Гитлеру уже стало ясно, что предотвратить поражение в войне можно только политическими средствами (действительно, вовремя не использовав политические средства для обеспечения успеха стратегии молниеносной войны на Восточном фронте, затем понадобилось прибегнуть к ним, чтобы попытаться избежать разгрома на этом театре военных действий. – П.Б.). Теперь руководству Германии следовало противопоставить русским их англо-американских союзников, используя, прежде всего, страх европейцев и американцев перед вторжением Красной армии и одновременно недоверие, подозрения и опасения коммунистического руководства СССР по поводу действительных намерений правящей элиты капиталистических стран. Свое мнение Фуллер обосновывает изменениями в характере немецкой пропаганды, которая летом 1943 года вместо лозунга завоевания жизненного пространства для немцев (нем. Lebensraum)[155] выдвинула лозунг защиты общеевропейского дома от азиатско-еврейского большевизма СССР и агрессии великих внеевропейских держав США и Великобритании – превращение Европы в крепость («Крепость-Европа», нем. Festung Europa)[156]. В связи с этим от немецкой армии в дальнейшем требовалось максимально затянуть военные действия, чтобы выиграть время для искусственного и естественного развития противоречий между русскими и их англо-американскими союзниками. Вермахт должен был оставить стратегию «сокрушения» (нем. Niederwerfungstrategie) и перейти к стратегии «истощения» (нем. Ermattungstrategie).
Перейдя к стратегии затягивания войны, политическое руководство Германии должно было попытаться искусственно создать или использовать естественно складывающиеся условия, которые позволили бы обострить противоречия между союзниками. Некоторые возможности для этого оказались связаны с постоянно актуальным в отношениях между русскими и европейцами так называемым «польским» вопросом.
В марте 1943 года немецкое руководство попыталось искусственным образом повлиять на общественное мнение Англии и США, широко осветив с помощью пропаганды события расстрела советскими органами государственной безопасности польских офицеров весной 1940 года в Катынском лесу под Смоленском (их останки были обнаружены немцами еще в 1942 году). 20 марта 1943 года польское правительство в эмиграции одновременно с правительством Германии обратилось в Международный комитет Красного Креста с просьбой о расследовании данного факта. В апреле 1943 года эксперты из 12 европейских стран составили протокол изучения останков более 10 тысяч польских военнослужащих, находившихся в плену в СССР с 1939 года, где подтвердили обоснованность обвинений в адрес советских правоохранительных органов (по замечанию Сталина в послании Черчиллю, это была «следственная комедия», не вызывающая доверия у честных людей)[157]. В конце апреля советское правительство разорвало все отношения с польским правительством. Однако, оказавшись перед угрозой разрыва отношений с СССР после отзыва советских послов из Великобритании и США, англо-американская политическая элита продемонстрировала свою обычную беспринципность, якобы поверив советским заявлениям о том, что все случившееся – немецкая дезинформация и фальсификация.
В конце 1943 и первой половине 1944 года основная напряженность в отношениях между премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (Winston Churchill) и советским лидером и Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным оказалась связана с вопросами по поводу советско-польской границы, территориальными претензиями Польши и СССР на земли Восточной Пруссии, а также конфронтацией между польским и советским правительствами (после расследования катынских событий Сталин в посланиях Черчиллю называл польское правительство империалистическим и профашистским)[158].
Соответственно еще одна возможность конфликта между СССР и его англо-американскими союзниками сложилась естественным образом, когда советское руководство из политических соображений не только не поддержало начавшееся 1 августа 1944 года вооруженное восстание польских «партизан» в Варшаве, организованное польским правительством из Лондона, но даже отказалось предоставить промежуточные аэродромы для «челночных» полетов англо-американской авиации, пытавшейся доставить полякам предметы снабжения с аэродромов в Италии (в ответ на прямую просьбу Черчилля и Рузвельта помочь их самолетам быстро осуществлять снабжение польских «антинацистов» в Варшаве Сталин отвечал, что кучка преступников затеяла восстание ради захвата власти, поэтому советское командование решило отмежеваться от варшавской авантюры, чтобы не нести ни прямой, ни косвенной ответственности за эту акцию)[159]. Варшавское восстание было подавлено частями германской армии, а западные союзники СССР не стали обострять возникший конфликт, сделав вид, что они оставили происшедшее без внимания (в связи с этим для военно-политического руководства Германии наиболее политически и стратегически целесообразным решением было бы не бороться с восстанием, а просто блокировать Варшаву (наиболее важные коммуникации проходили через пригород на восточном берегу Вислы – Прагу, и все время продолжали оставаться под контролем полевых частей группы армий «Центр», так же как и четыре главных моста через Вислу)[160] и только демонстрировать здесь военную активность, чтобы советским войскам при дальнейшем наступлении пришлось столкнуться с воодушевленными победой значительными силами так называемой Армии крайовой, руководимой польским правительством из Лондона, что неминуемо вызвало бы серьезный конфликт между поляками и русскими и новое столкновение англо-американских и советских интересов из-за «польского» вопроса)[161].
Помимо событий в Польше, в сентябре 1944 года появились противоречия по поводу раздела сфер влияния в Юго-Восточной Европе, связанные с вступлением советских войск на территорию Греции (во Фракию, которую Великобритания относила к зоне своих интересов), поэтому на совещании 13 сентября Гитлер объявил, что приблизительно через шесть недель Балканский регион станет районом столкновения между Англией и СССР, вследствие чего ход войны коренным образом изменится в пользу Германии[162]. Однако этого не случилось, а территориальные противоречия союзникам удалось урегулировать в феврале 1945 года в ходе Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех держав – США, Великобритании и СССР.
Последнюю возможность раскола союзников по «антигитлеровской» коалиции как будто предоставила сама судьба, когда в апреле 1945 года скончался американский президент Франклин Рузвельт (Franklin Roosevelt) и его место занял крайне негативно относившийся к коммунистическому режиму СССР Гарри Трумэн (Harry Truman). Гитлер тщательно изучал события Семилетней войны, и теперь, на его взгляд, история вновь повторялась – приблизительно через шесть лет после начала военных действий Германии против коалиции европейских держав и России, когда неприятельские армии уже вступили на территорию Бранденбурга и Померании, вдруг умирает один из антигермански настроенных вражеских вождей. Так, в январе 1762 года скончалась императрица Елизавета I Романова, и Пруссию Фридриха II фактически спасли от военного поражения и капитуляции сначала вступивший на русский престол поклонник короля, воспитанник прусской военной школы Петр III, а затем Екатерина II, отец которой был фельдмаршалом прусской службы, а мать – тайным агентом Фридриха. В боевом приказе вермахту от 15 апреля 1945 года говорилось, что теперь, когда смерть избавила землю от величайшего военного преступника всех времен (Ф. Рузвельта. – П.Б.), этот поворотный момент в войне станет решающим[163].
Однако в отличие от Семилетней войны катастрофические последствия противоборства с русской армией не оставили Гитлеру времени, необходимого, чтобы Гарри Трумэн успел вступить в серьезный конфликт с политическим руководством СССР. Суммарные стратегические, оперативные и тактические просчеты и ошибки вермахта на Восточном фронте (в том числе и в Курской битве) ограничили время сопротивления немцев первой декадой мая 1945 года. Последняя возможность так и осталась только потенциальной. Фридрих II оказался дальновиднее Гитлера, сделав расчет не только на военную силу, но и на внедрение агентов влияния в высшие эшелоны власти потенциального противника. По мнению генерала Гейнца Гудериана, Гитлер был лишен мудрости и чувства меры своего кумира – Фридриха Великого[164].
Как впоследствии признал фельдмаршал Кейтель, имея в виду возможность достижения сепаратного соглашения с Великобританией и США, начиная с лета 1944 года Германия вела войну за выигрыш времени в ожидании тех событий, которые должны были случиться, но не случились[165].
Соответственно, кроме призрачной возможности политической конфронтации между своими противниками, военно-политическому руководству Германии оставалось еще надеяться только на так называемое «чудо-оружие». Однако конструктивного подхода, знаний, опыта или интуиции у немецких лидеров оказалось недостаточно, чтобы, во-первых, заранее предусмотреть возможность негативного развития событий на фронте; во-вторых, сделать правильный выбор среди всех предлагаемых вариантов того вида оружия, которое могло быть реально сконструировано и произведено в нужном объеме за определенное, достаточно короткое время, а при боевом применении внесло бы кардинальный перелом в ход военных действий; в-третьих, согласованно принять и добиться выполнения решений о перераспределении дефицитных ресурсов для реализации проекта с непредсказуемым результатом. Хотя вблизи судить о том, какая из соперничающих исследовательских программ в итоге окажется наиболее эффективной, в большинстве случаев не могут даже выдающиеся ученые – эксперты в своей области. Это становится ясно только по прошествии определенного времени.
Теперь очевидно, что после 1942 года коренным образом изменить обстановку на Восточном фронте в пользу вермахта могло только применение ядерного оружия, тем более что Германия располагала даже такими средствами его доставки, как тяжелые бомбардировщики типа Не-177 (серийные машины типа Не-177А разных модификаций имели нормальную бомбовую нагрузку 6 тонн, дальность полета от 1,2 до 5,8 тысячи километров, скорость свыше 500 км/час, высотность 7–15 тысяч метров)[166]. Тем не менее ведущие немецкие ученые-физики Вернер Гейзенберг, Отто Ган, Пауль Гартек, Карл Вайцзеккер, Карл Виртц, Курт Дибнер оказались разобщены на несколько групп, конкурировавших между собой за скудные ресурсы и финансирование, в условиях постоянных диверсий со стороны англо-американской разведки и бомбардировок англо-американской авиацией промышленных объектов, задействованных при создании прототипа ядерного реактора[167].
Любое промедление в реализации программы ядерных исследований, вызванное несогласованностью действий, недостатком материалов или выходом из строя оборудования, служило на благо противников Германии. Причем в самом начале работы над атомным оружием немецкими физиками была допущена грубейшая ошибка, вызвавшая подозрение в преднамеренной недобросовестности со стороны ученых. В ходе лабораторных работ по определению сечения поглощения нейтронов графитом был использован плохо очищенный образец, что обусловило ошибку при вычислении коэффициента поглощения нейтронов и дальнейший неправильный вывод о предпочтительности использования в качестве замедлителя нейтронов тяжелой воды, которую было намного сложнее производить и использовать в реакторных системах[168]. Проведение только одной серии опытов с «грязными» образцами графита заставляет заподозрить немецких физиков, часть из которых не разделяла национал-социалистической идеологии из-за собственного национального происхождения, в умышленном вредительстве (существует версия, что благодаря своему авторитету в научном мире датский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Нильс Бор добился от Вернера Гейзенберга (Werner Heisenberg) обещания саботировать разработку ядерного оружия, чтобы гитлеровская Германия не получила возможности победить в войне и утвердить идеи национал-социализма «от Атлантики до Урала»). В итоге испытание наиболее перспективной модели реактора В-VIII с тяжеловодным замедлителем прошло только 28 февраля 1945 года и оказалось неудачным – в связи с малым количеством загруженного в реактор урана и недостатком тяжелой воды цепной реакции ядерного деления на произошло[169] (хотя корреспондент итальянской газеты «Коррьере делла Сера» (Corriere della Sera) некий Луиджи Ромерца (Luigi Romersa) после войны утверждал, что в октябре 1944 года он был на немецком полигоне на острове Рюген в Балтийском море, где присутствовал при успешных испытаниях так называемой «грязной» ядерной бомбы (контейнер с радиоактивными изотопами был помещен в оболочку из обычного взрывчатого вещества с целью добиться с помощью взрыва образования критической массы ядерного вещества и цепной реакции деления ядер тяжелых элементов), однако бомбы такой примитивной конструкции являются исключительно «радиологическим» оружием, поскольку они не позволяют добиться ядерного взрывчатого эффекта, и, следовательно, они не могли обеспечить перелом в ходе военных действий).
