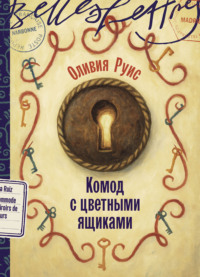Czytaj książkę: «Комод с цветными ящиками», strona 2
Тогда я еще не понимала всего этого. Как только Леонора заметила, что мы с Кармен начинаем пугаться, она напомнила нам, что все это временно, хорошие республиканцы скоро прогонят злых франкистов. Хорошие парни всегда побеждают… И оп-ля, проблема решена: «Tranquilo nenas13, хороших снов». – «Ну, если все уже почти закончилось, ладно… спокойной ночи». Так легко уезжать, если не знаешь, что, возможно, никогда не вернешься.
* * *
Какое чувство свободы было в самом начале! В каком восторге были мы с Кармен! Столько солнца – казалось, в феврале наступило лето. Мы открывали для себя новый мир, сотни наших ровесников бежали вместе с нами через Пиренеи. Конечно, для Леоноры все было иначе. Она была сосредоточена, она знала, что нас ждет, или предвидела. Другие тоже. То, что говорили нам родители, никак не вязалось с тревогой на лицах взрослых, которых мы видели во время нашего путешествия, и я начала задумываться.
Когда половина пути осталась позади, наше с Кармен возбуждение заметно уменьшилось. Холод становился все ощутимее, усталость давила все сильнее, от ботинок отваливались подошвы. Гул людей, идущих друг за другом, плач младенцев и сдавленные причитания разносились по склонам горы.
В Лё-Булу14 мужчин отделили от женщин и детей. Расставание с Хайме было ужасным. Беременная Анхелита рыдала от горя. Мы крепко обнимали ее, пытаясь успокоить, но все было напрасно. Кармен тоже плакала, сама не зная почему. Семьи вокруг нас разрывались на части, люди расставались, обливаясь слезами, не чувствуя укусов ледяного ветра, потому что боль в их сердцах была гораздо сильнее.
На границе всем сделали какие-то уколы. Никто не спрашивал зачем – от холода и голода нас всех охватило бесчувствие. Мы так и не узнали, что это было. Мы с сестрами оказались далеко не в худшем положении: мама положила в чемодан толстые шерстяные свитера и по паре новых ботинок для каждой из нас. Но тревога перед неизвестностью росла, особенно теперь, когда с нами не было нашего единственного мужчины. Если мы скоро вернемся домой, почему все в нашей группе так напуганы и печальны? Точнее было бы сказать – в нашем стаде, потому что и французские, и испанские власти обращались с нами как со скотом.
Мы прошли сто пятьдесят километров, за это время волонтеры Красного Креста дважды привозили нам воду и немного еды. В Лё-Булу одна старушка дала Кармен маленькую коробочку с mantecados15 и dedos de bruja16. Так странно: печенье было очень похоже на то, что пекла моя Абуэла – за несколько месяцев до того, как умерла от рака желудка. Когда маму спрашивали, от чего умерла Абуэла, она, сдерживая ярость, отвечала: «Моя мать не смогла пережить того, что ее народ позволил негодяям захватить нашу землю». Вот так.
Эти слова многих напугали, никто ведь не думал, что от такого можно умереть. Вон оно что, наша старушка умерла из-за своих убеждений, а вовсе не от того, что постепенно захватывает все больше места и побеждает, как бы ты ни сопротивлялся, – совсем как этот malparido17 Каудильо18.
Блеск коробки с печеньем отражался в повеселевших глазах моей младшей сестры. Так трогательно было видеть это посреди всего того отчаяния, что нас окружало. Мы с Леонорой понимающе улыбнулись друг другу – в первый и последний раз за время нашего пути. Она не хотела, чтобы я видела ее страх, а я не хотела признавать ее власть. В конце концов, она не была моей матерью. Кармен сначала не хотела делиться. Это ведь ей подарили. И неважно, хотели мы есть или нет, рассчитывать на ее печенье нам не приходилось. Она и сама не сразу набросилась на свое сокровище, несмотря на то что в животе у нее урчало от голода. Мы были в пути уже два дня, и бутерброды, которые дала нам мама, давно закончились, как и печенье от Красного Креста.
Но, пройдя сто пятьдесят километров, мы стали старше на несколько лет, и Кармен сама решила разделить свою добычу поровну. Мы с Леонорой настаивали, чтобы она оставила себе побольше, повторяя мамины слова о том, что она еще растет, и уверяли, что нам не так уж хочется есть. Но она не послушалась. Еще два месяца назад я бы без всяких угрызений совести схватила Кармен за руку, чтобы отобрать у нее печенье, а она с невероятной изобретательностью прятала бы его от сестры-обжоры. Но не теперь…
В нашей группе было человек сто, рядом с нами текла настоящая человеческая река – словно тысячи муравьев, храбрых и уязвимых, измученных холодом и тяжестью поклажи, но полных решимости.
В Аржелес19 мы прибыли ночью. Какой же тогда был свинячий холод! То есть собачий! Простите… Я не очень понимала, почему огромный, огороженный колючей проволокой загон на берегу называется лагерем. Я-то, когда в Сербере20 впервые услышала слово «лагерь», представила себе что-то вроде гигантского кемпинга. Но это огромное песчаное пространство больше напоминало место, где люди дожидаются смерти: около пятидесяти разбросанных по берегу бараков, шатких, как соломенный домик самого ленивого поросенка, несколько уличных жаровен и обступившие их призрачные фигуры. Там почти ничего не было – только тела, истрепанные ветром, измученные голодом, только души, истерзанные воспоминаниями и потерями.
Нас встретили четыре медсестры с охапками мешков из джута в руках. Эти женщины были добрыми и заботливыми и пытались помочь, несмотря на огромный наплыв людей. Как тепло нам стало от их внезапной доброты после долгого пути, на протяжении которого с нами обращались как с побежденными! Возможно, именно в этот момент и родилось призвание Леоноры. Каждая семья получила два одеяла, буханку хлеба и маленькую канистру с водой, почти превратившейся в лед. Нас разместили в бараке, где на полу уже лежало человек тридцать, таких же измученных, как и мы. Те француженки были добрыми. Мы чувствовали это, хотя не понимали ни слова. Мы заняли место рядом с беременной женщиной, живот у нее был еще больше, чем у Анхелиты. Они прижались друг к другу, а я улеглась под боком у Анхелиты и гладила ее живот, чтобы успокоить малыша. Их животы были похожи на два яйца динозавра в гнезде из тряпок. Леонора разрезала хлеб на четыре части, никто из нас даже не подумал оставить хоть что-то про запас. Кармен заснула, не доев. Крыша над головой – пусть и грозившая вот-вот сорваться и улететь, пусть под ней и пахло грязными людьми, изнуренными долгой дорогой, – успокоила ее.
Всю ночь мне снилась мамина fideuá21. Я чувствовала во рту el socarrat22. Знаешь, ту поджаристую корочку, которая остается на дне кастрюли, полной риса для паэльи или лапши для фидеуа. Хрустящую, пропитанную соками. Очень вкусную. Я так боролась с чувством голода, пока была в сознании, что оно стало настигать меня во сне. Просыпаться после такого было еще тяжелее.
Я открыла глаза с первыми лучами солнца. Дома мы обычно запирались от этой палящей громадины, скрывались, пережидая самые знойные часы, когда ее яростный жар угрожал нашей коже. И вот впервые оно могло стать нашим защитником, а не тем, от кого нужно прятаться, впервые оно могло бросить вызов холоду, который заставлял нас съеживаться, впервые могло обратить на него свою обжигающую мощь… ¡Coño!23 Предатель!
Я вдруг заметила, как исхудала Кармен. Всего семьдесят два часа, а ее и без того хрупкая фигурка приобрела болезненный вид. Моей младшей сестре было всего шесть лет, а под глазами у нее уже появились темные круги. Синяки под глазами! Как это возможно? Я осматривалась по сторонам и видела исхудавшие лица, обтянутые кожей гóловы, неловко прилаженные к истощенным телам. Как долго эти люди находятся здесь? Сколько они прошли? И ради чего? Разве можно считать, что ты в безопасности, если оторван от семьи и сидишь на холодном песке?
Я чувствовала, как во мне нарастает гнев. На родителей, на Леонору, на что-то, чего я не могла назвать, но ком ненависти в моем животе увеличивался с каждой секундой. Думаю, именно в этот момент я поняла: нет, это не пустяки; нет, это не временно. Нет. Я поняла, что вся моя жизнь отныне будет написана красными чернилами тех нескольких дней.
Красный Крест связался с tío Пепе. Беженцы могли покинуть лагерь, только если кто-то из граждан Франции подтверждал, что примет их у себя. Дядя согласился, и мы сели на поезд до Нарбонны. Теперь я жалею об этом. Нужно было остаться. Когда мы уходили из лагеря, мне казалось, что я бросаю тех, кто продолжал находиться в заточении. Если бы я осталась, я могла бы помогать, приносить пользу, ухаживать за больными. Но я выбрала другое – слушаться указаний папы и мамы, спасать свою шкуру, подчиняться. Стыд преследовал меня всю дорогу, прогоняя радость, которая закрадывалась в мое сердце при мысли о том, что теперь у нас будет настоящий дом. То неприятное ощущение, то чувство вины до сих пор иногда возвращается ко мне во сне и преследует потом весь день.
Анхелита осталась в лагере. Она надеялась перед отъездом найти там Хайме – на следующий день должны были приехать повозки за будущими матерями и отвезти их в Эльн24, где им предстояло рожать. Мы не хотели ее оставлять. Кто о ней позаботится? Одна медсестра, говорившая и по-французски, и по-испански, объяснила нам, что в Эльне Анхелите будет лучше, чем в любом другом месте. Одна швейцарка организовала там место, где женщинам и детям будет безопасно. Родильный дом, да, но не только. Убежище, тихая гавань. Она рассказывала так, что мы ей верили. А может быть, нам просто впервые говорили правду, и мы это чувствовали. Ее слова успокоили нас, и прощание было не таким ужасным. Леонора дала Анхелите номер tío Пепе. Мама говорила: на всякий случай. Никогда не знаешь, что тебе понадобится. Как же она была права…
2
Ключ

На вокзале в Нарбонне вышли не только мы с сестрами. Вместе с нами поезд покинула примерно четверть пассажиров. Это успокаивало. Но большинство людей отступали в сторону, когда мы проходили мимо. На нас смотрели как на диковинных зверушек, а может быть, как на захватчиков, не знаю. Теперь-то я понимаю. Отчасти. Страшно, наверное, узнать, что на твоей земле внезапно появились четыреста тысяч голодных ртов.
В моей памяти остались две фразы, которых я тогда не поняла, но французы все время повторяли их, и я запомнила. Иногда выкрикивали, иногда говорили вполголоса: «Espagnols de merde. Ils sont sales, ils puent»25. Скажу тебе, мы быстро научились понимать эти слова и до нас почти сразу дошло, что чудесная жизнь в городке у моря, которую так расхваливали родители, начнется не прямо сейчас.
Но оставался еще tío Пепе. Если он такой же, как двое его братьев, подумала я, будет весело. Вот только tío Пепе был теперь французом, он пользовался некоторой известностью, и ему не хотелось, чтобы его видели вместе с нами, не говоря уж о том, чтобы взять нас к себе в дом. Он отвез нас в так называемый цыганский квартал в Нарбонне, ну ты знаешь, напротив барахолки. Остановившись у самого высокого и облезлого здания, он свистнул, и в окне шестого этажа появилась сорокалетняя красавица. Ему не пришлось ничего говорить. Женщина крикнула:
– ¡A ver si me queda algo!26
Несколько минут спустя она выглянула снова:
– ¡Sube!27
Когда я перестала таращиться наверх и отвела взгляд от неба и от окна, tío Пепе уже испарился, только маленький ключик поблескивал на земле. Я незаметно подобрала его и вслед за сестрами вошла в дом. От чего был этот ключ, я так и не узнала. Хотя нет, узнала. Этот ключ открывал новую главу моей жизни, а еще он наглухо запер все, что в ней было до сих пор. Потом он как-то сам собой оказался на цепочке вместе с крестильным медальоном и ударялся о него или скользил по нему, в зависимости от того, как быстро я шла. Так же поступала со мной и жизнь, напоминая, что нетерпеливость – мой враг.
* * *
¡Ay, Dios!28 На каждом этаже мне казалось, что мы вот-вот провалимся сквозь пол и снова окажемся на крыльце. Я крепко сжимала медальон, он придавал мне храбрости. В доме царило бешеное оживление. Все, кто попадался нам навстречу, выглядели уверенными, как будто с ними не могло случиться ничего плохого. И никто не сидел без дела.
– ¡Hola amores!29 – раздался голос.
Мы переглянулись. Кто это? Мужчина? Женщина? Кажется, и то и другое. Грудь, макияж и прическа явно принадлежали женщине, но огромные руки и ноги говорили о другом.
– ¡Hola!30 Вы взяли с собой игрушки, когда уезжали? – Милая белокурая девочка следовала за нами по пятам с удивительной для ее возраста целеустремленностью.
«Игрушки, вот еще!» – подумала я. Мы ведь не прикатили сюда с комфортом в чудесной машине с чудесными кожаными чемоданами, в которые поместилась бы вся наша чудесная жизнь! Я кипела от возмущения, но вдруг заметила, что все лицо, и шея, и руки у этой малявки покрыты шрамами. Позже я узнала, что Луизе было всего шесть лет, когда она сбежала из исправительного лагеря в Аликанте. Ее поймали и изувечили, но она снова сбежала. Никто не знал, как она, полуголая и полумертвая, оказалась перед этим домом.
На пятом этаже царила более непринужденная атмосфера. Слева, за широко открытой дверью, шестеро стариков резались в карты и, увлекшись игрой, кричали друг на друга. Справа, за другой распахнутой дверью, женщина расставалась с мужчиной. Вернее, выставляла его за дверь. Мне потребовалось не так много времени, чтобы понять: Хосефа и Мигель расстаются минимум раз в неделю, но не проходит и двенадцати часов, как пламя их любви вспыхивает с новой силой. Все находилось в своеобразном равновесии.
На шестом этаже, непринужденно прислонившись к стене, нас ждала прекрасная Мадрина. Она вязала и жевала жвачку. Очень красивая. Не просто красивая. Потрясающая. Как моя мама. Она провела нас в комнату, где была раковина, две кровати – большая и маленькая, письменный стол и два стула. Конечно, все было обшарпанное, и, чтобы получить хотя бы струйку воды, приходилось изо всех сил качать педаль ногой, но эта комната площадью целых пятнадцать квадратных метров казалась уютной. И мы с сестрами могли похвастаться самыми красивыми икрами во всей округе.
– Шить умеете?
Мы молча замерли, рядком, как три сардины в только что открытой банке. Конечно, мы умели шить! Даже Кармен уже умела. Какая мать не научит дочерей хотя бы элементарным навыкам, которые помогут им найти мужа? Cocina, costura, limpieza. Готовка, шитье, уборка. Это как приданое, обязательный минимум, на который рассчитывает любой жених. Наша мама растила маленьких солдатиков, готовых к бою, и вообще к любой ситуации.
Мадрина, виртуозно экономя слова, сообщила: мы будем работать в обмен на еду и крышу над головой. Мы с Кармен можем работать только по выходным и ходить в районную католическую школу, куда берут испанских иммигрантов, но Леонора должна работать полный день. На Мадрине – готовка. В полдень и в семь вечера еду получают жильцы второго этажа. В четверть первого и четверть восьмого – третий этаж. И так далее. Мы будем есть на седьмом этаже, завтракать в час дня и ужинать в восемь вечера. Никаких опозданий. У нас было ровно пятнадцать минут, чтобы все съесть и вымыть посуду, – в отличие от наших соседей снизу. Но если Мадрина не приходила, чтобы нас разогнать и заставить приступить к уборке, мы засиживались за столом, обсуждая новости, мечтая и пускаясь в рассуждения, лишь бы не говорить о главном. Столовая служила нам шлюзом, местом, где можно было немного передохнуть. Здесь нас никто не беспокоил, а вот в нашей комнате до десяти часов вечера не было ни минуты покоя. К нам то и дело стучались – по любому поводу. В доме царило самоуправление, все держалось на постоянной взаимопомощи. Вначале это вселяло надежду. Потом стало утомлять.
Дома еще куда ни шло, но школа, mi amor31… Как объяснить тебе, что чувствуешь, когда приходишь в школу, где все говорят на языке, которого ты не знаешь? Ты все равно что пьяный или даже глухонемой. Так я себе это представляю. Но язык недолго оставался для нас барьером, хотя на переменах мы говорили только по-испански. Большинство французских детей получили от родителей строгий наказ не приближаться к нам – вонь, вши, грязь и все такое. Уж поверь, гигиена у нас была безупречная, и никаких вшей, никогда. Волосы черные, как эбеновое дерево, толстые, как веревка, – все знают: вши это не любят, в таких волосах они просто не заводятся.