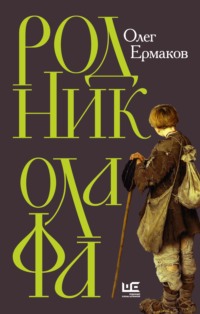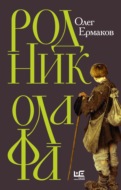Recenzje książki «Родник Олафа», strona 3, 25 opinie
В своё время академик Щерба придумал высказывание: «Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка» для того, чтобы продемонстрировать положение структурализма о том, что структура языка обеспечивает понимание даже тогда, когда семантика слов нам неизвестна. Теперь в стиле Глокой куздры написан целый роман.
Это произведение – добротный роман-странствие. Есть в нём что-то от «Очарованного странника» Н. С. Лескова (особенно конец). При этом, конечно, чувствуется, что и лавры «Лавра» автору покоя не давали. Книга, без сомнения, достойная, но в сокровищницу литературы не войдёт. Причина, на мой взгляд, как раз в том увлечении древнерусскостью языка, о которой я писал в самом начале. Пушкин в 19 веке в своих произведениях создал русский литературный язык. Зачем автор в начале 21 века пытается воссоздать псевдо древнеславянский остаётся загадкой. Нарочитое использование архаизмов не затрудняет понимание, но в целом такие выкрутасы для языка излишни, избыточны. Автор пытается с помощью языка воссоздать колорит эпохи, но выглядит это несколько дёшево. Как будто эльфийский язык в Хоббитах.
Везет в последнее время на экспериментальные книги. Данный роман конечно очень выбивается из общего ряда. Такая тихая неспешная история. Какая-то дачная или летнезнойная книга. Читаешь этот ручеек слов и просто медитируешь. Сюжета в романе мало, языка - много. Языковое новаторство переливается, журчит, сверкает. Только ради этого стоит познакомиться с романом. Но... Я все же сторонник сюжетности в литературе. Поэтому, наверное, остановлюсь с этой серией. Такого много быть не должно. Но в качестве необычного опыта вполне...
Двенадцатый век от Рождества Христова. Великое княжество Смоленское. Немой отрок Спиридон, по прозвищу Сычонок, истово мечтает обрести речь. От разных людей он слыхал, что в далёком Оковском лесу таится чудодейственный родник, из которого берут начало реки: Днепр, Волга, Двина, и ежели из энтого заповедного студенца (родника) испить водицы, то можно обрести олафа глаголити (дар речи). Так начинается его полная приключений, богатая событиями, дальняя дорога к заветной мечте.
"Противостояние"
В девятьсот восемьдесят восьмом году князь Владимир выбрал христианство и Православие. Новый живой Бог пришёл на смену старым каменным и деревянным идолам. Но и спустя полтора столетия страсти не утихают, Спиридону предстоит стать невольным участником столкновения двух религий — язычества и христианства. У каждой религии есть своя собственная точка зрения на проблему человеческого бытия, своя правда, а какая важнее — не сразу и спознаешь.
"Я могу говорить"
Немой отрок чуток к слову, внимательно слушает и слышит всё, что рядом с ним говорится, впитывает в себя словесы аки губка влагу — важное качество, присущее писателю. Знай он грамоту — стал бы летописцем, не хуже Ермакова. А может ещё и станет и это будет явное чудо — чудо Промысла Божия о нём. И напишет он книгу большую и умную. И голос его будет слышен сквозь века.
Бысть се исстари, в веке 12-м от Рождения Спасителя, когда челом светлый князь Ростислав Мстиславич на столе в Смоленске сидел. Бысть се на землях Смоленщины, меж дубрав раскидистых, на реках могучих. Бысть се средь люда русского, вержавлян статных, что в граде Вержавске житие несут. Да и не токмо в Вержавске, а и в соседних землях.
Житие вершил у тому Вержавске-граде мальчонка Спиридон, что нем, аки карась речной, аки сыч лесной (за что его и прозывали так). Вот с ним-то бысть приключение в сей книжице. Почти хожение за три реки вышло. Яко же вышло се? Осе сице (вот так - прим.)!
Грезу у сердца держал Сыченок, что сплавится вместе с отцом-плотогоном по рекам, да мир повидает. Осе сице як дивно грезилось! Да токмо вышло инако все. На речке, на Каспле, у мраце ночи, тати бессердечные напали да порубали отца Сычонка и двох ище напарников-плотогонов. Осе сице, творится зло яко на реке! Сычонок-Спиридон и почне путь свой, хожение за даром олафа, за глаголицей-языце вороче.
Осе сице примерно и написан роман Олега Ермакова "Дар Олафа". Конечно, я немного сгустил краски, но словеса старинные так и льнут к тексту. Многочисленные примечания постоянно уводят к разъяснению, и порой на одной странице таких примечаний бывает пять-шесть. Начинает создаваться ощущение, что попал в указатель словаря. Да, колоритные словечки создают определенную атмосферу давнего времени. Но закрадывается подозрение: а так ли говорили люди в 12 веке? Такие ли точно слова употребляли? Нет ли тут отсебятины, смешения более поздних архаизмов, жаргонизмов и невесть еще каких измов? Да и надо ли было уж так сильно менять повествовательную речевую ткань? Если заменить в авторском тексте "бысть" на "был/было" - мир ведь не рухнет. Понятно, что мы будем читать не летописный извод давних веков, а книгу на современном русском языке. Так может, не стоило сильно "перчить" кудесными словесами книгу?
Что до самой истории, то она достаточно увлекательна. За судьбой мальчика интересно следить. Есть, конечно, места с провисанием сюжета, яко на плоту по болоту плывешь, а есть и стремнины, такие, что только и держи шест покрепче. Приключение, что прямо ух, с медведями и варягами. А знаете, какое произведение эта книга напомнила? "Золото бунта" Алексея Иванова. Там тоже есть река, паренек-сплавщик-главный герой, его странствие по окрестным землям, встречи с разными людьми, даже с монахами, разбойниками. И мистика, спор о религиях тоже присутствует. Книги о разных временах, о разных землях, но что-то неуловимо роднит их, заставляет провести параллели. И заметьте, как в "Золоте бунта" Иванов проходится с жаргоном и старыми словами. Да взять опять-таки "Сердце пармы", там время ближе к "Роднику Олафа". И не приходится ведь у Иванова там сноску за сноской читать.
Сама природа Смоленщины чудесно передана автором. Видно, что человек любит свой край, свою историю. Чувствуется свет души, желание донести до читателей всю красу. Хотелось бы посоветовать другой роман Олега Ермакова - "По дороге в Вержавск". Это если кому будет интересно узнать еще о Вержавске и героях тех земель уже в новое время.
Еще замечены были такие моменты, которые бы отнес к минусам. Сцены сражений и драк зачастую прописаны невнятно. Замахи, удары, а кто кого, как именно все происходило - поди ты догадайся. С баталиями се не очень, ой не очень. Также зачем-то часто упоминались полные имена героев. Например, "сказал мужик Вьялица Кашура". Через две строчки ниже - "мужик Вьялица Кошура". А что мешало второй раз написать просто Вьялица или Кошура? Ведь мы же уже понимаем о ком речь идет.
Как итог, "Родник Олафа" увлекает нас в приключение с маленьким Спиридоном к истоку трех рек. Герой взрослеет, все как положено. И если бы автор поумерил свой пыл с архаизмами по тексту, было бы только лучше. Осе сице! Бысть продолжению!
читается легко, только перебор древней лексики (ИМХО). Вроде бы и есть какая вторичность (типа Лавра), но нет выраженного нарратива, поучений, сюжет динамичен. В общем, ждешь продолжения.