Пластуны. Золото плавней
Tekst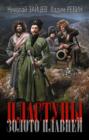


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 490 str.
- Kategoria: powieść historyczna, historyczna literatura przygodowa
Глава 2
Джигитовка
Приказный, а это был Василь Рудь, внук деда Трохима, держа в руках бунчук с прикрепленным к нему красным флажком, наметом поскакал к станице. Копыта его коня кабардинской породы, называемой горцами адыгэш, казалось, зависали в воздухе, не касаясь земли. Облако густой пыли потянулось за всадником, словно тень. Коня этого, как и основное оружие, Василь получил в подарок от своего деда Трохима – по святой традиции казачьего рода на добрую службу. А служба – это жизнь, значит, на всю жизнь.
– Не посрами хфамилию, внук! Тебе самое лучшее!
– Ой спасибо, диду! – растроганный молодой казак обнимал старика и целовал троекратно. В глазах стояли слезы радости, волнения и торжества. Спроси его, что именно он испытывает в ту секунду, не ответил бы.
– Остальное добудешь на шашку, – хитро шептал старик на ухо, обдавая добрым чесночным запахом, и в по-прежнему молодых глазах, обрамленных сеткой морщин, стояли смешинки. Словно в зеркало, они смотрели друг на друга, видя каждый свое – будущее и прошлое. И вечная то была связь, не рушимая временем.
Казак Василь всеми силами старался оправдать доверие старика, быстро стал приказным, стремясь быть первым везде, и очень сильно переживал, что не попал на джигитовку из-за своего глупого проступка. Теперь пришло время восстановить имя и выполнить наказ самого сотника Билого.
Дед Трохим, стоявший рядом с другими стариками, чуя неладное, смотрел вслед удаляющемуся в сторону станицы внуку. С тревогой в сердце он перекрестил его двуперстным крестным знамением и прошептал сухими от жары и волнения губами:
– Господи, сохрани. – В станице еще хранили «веру отцов, веру истинную», следуя законам старообрядческим. Так повелось, что при переселении на Кубань больше половины казаков стали прихожанами греко-российской церкви. Однако другая часть не придерживалась таких правил. Старообрядческая половина казаков, в основном это были черноморцы, не удовлетворилась исполнением треб собственных наставников и обратилась через поверенного в Астраханскую духовную консисторию с просьбой о рукоположении для них собственных священников, которые исполняли бы требы по старопечатным книгам и старому обряду. И вот тут произошел казус: старообрядческие священники, перед которыми изначально ставилась задача постепенного обращения старообрядцев в православие, сталкивались с трудностями в деле своей миссии, и старообрядчество в станицах держалось крепко, а заповеди блюлись строго.
Время, как вода в Кубани, протекло незаметно. Когда внук успел вырасти? Вспомнилось деду Трохиму, как Василю исполнился годик.
Первый день рождения отмечали по обычаю, установленному предками, и придавали этому особое значение. Собралась на базу у хаты в тени кустов калины красной вся родня и крестные родители внука. Шли всей процессией к станичной церкви.
После литургии и причастия все вновь вернулись к куреню Рудей. Выносила сноха Нона, первая красавица станицы, из хаты кожух. Сажали по традиции на тот кожух Василя. Выстригали малому Василю крестом светлые волосики на головке, чтобы защитить будущего воина от происков лукавого.
Брал затем Федор, прозванный в станице Вареником за страсть свою к этому блюду, которое мог съесть неограниченно, – отец Василя, сын деда Трохима, сына на руки и нес на баз, где стоял на привязи боевой конь. Все смотрели с замиранием сердца на обряд, затаив дыхание, боясь шумом растревожить душевность мига.
Сажал Федор Вареник-Рудь малэнького Васыля на коня, надевал на него свою шашку, брал коня под узцы и проводил по базу. Медленно вел, с достоинством – показывая миру появление нового казака. Несмотря на свой возраст, держался внук в седле крепко. В глазах его светилась гордость. На коне верхом, да все одобрительно смотрят, улыбаясь, – чего бояться. Весело ему! Так и поскачет по жизни – сразу видно – удало и легко.
– Отразу выдно, природный ты – казак! Добрый казак! – сказал тогда Иван Ковбаса – крестный отец Василя, казак из прославленного рода, пластун и рубака известный. Не раз хамылявший с Вареником по плавням, друг первый и односум. Да что там друг! Брат названый! Кому как не ему стать крестным? Лучше и не найти, воспитает как сына, не стань Федора.
Мать украдкой вытирала слезы белым платком, умиляясь и радуясь торжественности момента.
– Сыночек мой, – шептала женщина, окрыленная гордостью.
Опосля собирались все мужчины рода, вели мальца на коне на священное место своей станицы, называемое у черноморцев кругликом. Там крестный отец осторожно брал Василя на руки, поднимал высоко над головой, повертался лицом на восток и произносил:
– Будь добрым казаком и славным воином, как и предки наши.
Традиция эта, возникшая в седой древности, кочевала из поколения в поколение и позволяла передать на духовном уровне силу и знания рода новому поколению.
Быстро рос внук. Шустрым и жизнерадостным парубком. Так же время пролетало: то метелями и сугробами, то знойным пеклом. Запах цветения акации сменялся запахами меда, да незаметно всегда приходила осень со своей грязью и проливными дождями.
Вспомнилось деду Трохиму, и как провожали Василя на службу. Как ставила мать призывника на колени, умывала святой водой и читала молитвы, обращаясь к Спасителю, Матери Божией, ангелу-хранителю с просьбой спасти и сохранить сына. Умыв Василя, вытирала его подолом, вывернутым наизнанку.
И снова шептала мать тайком:
– Сыночек мой… – И сердце ее сжимала тревога, которая вселилась туда навсегда.
Отец же его готовил в это время коня на базу. Подводил затем коня Ноне, супруге своей, клала та поводья в свой подол. Брал Василь поводья из подола матери, садился в седло и правил коня к месту сбора, туда, где сегодня джигитовали молодые казаки. Читал священник молитву, кропил святой водой воинов да коней. Рапортовал сотник Микола Билый станичному атаману о готовности, отдавал команду, и строй с песней уходил из станицы.
Как один миг пролетели года с того времени.
Возмужал Василь, превращаясь из парубка в славного мужа и воина. И даже в каждом движении молодого казака старик видел себя.
– Справный, добрый казак стал. Гарный хлопец! – кусая седой ус, чуть слышно сказал дед Трохим, провожая взглядом облако пыли, оставленное Василем.
Василь же, чувствуя важность момента, ублажая своего коня нагайкой, уже влетал в станичные пределы, громким голосом возвещая: «Сполох! Сполох!»
Не было лишних расспросов.
Казаки, услышав сигнал тревоги, не раздумывая бросали свои дела, наскоро седлали коней, крепили на поясах у черкесок шашки и кинжалы, приторачивали свои рушницы и так же наметом правили коней к окраине станицы, где на своем ахалтекинце горцевал Билый.
От быстроты действий каждого зависел исход: чьи-то жизни, потери. Поэтому никого не нужно было подгонять.
Сотник говорил со станичным атаманом, обсуждая план действий, наблюдая, как стекаются с разных сторон станицы казаки. Оба сошлись на том, что единственный путь, по которому имелась возможность нагнать горцев, был путь через перевал. Чтобы попасть в свой аул с косяком украденных лошадей, черкесам нужно было пройти долиной и обогнуть горный уступ по излучине реки. Это займет некоторое время. Кроме того – есть еще одно препятствие, заноза для черкесов – малая крепостица с горсткой казаков.
– Говори. – Атаман, перед тем как отдать приказ, всегда слушал подчиненных, ведь одну и ту же каменюку каждый видит по-разному. Такая воинская наука познается через бой.
– Если идти за ними по пятам, то можем не успеть и упустим абреков, – сказал Билый. – Если же идти напрямки, по горным тропам, шансы настичь их врасплох и атаковать с ходу повышаются в разы.
– Согласен. – Атаман кивнул. Сотник вздохнул.
Не удержался старый казак, спрашивая:
– Что тревожит еще тебя? Почему хмур?
– Крепостица там стоит подхорунжего Гамаюна.
– То так! И что? – Атаман нахмурился, сведя густые седые брови.
– Зная нрав казака, могу точно сказать – не отойдет и не укроется, примет бой и станет биться до последнего. Не покинут крепостицу. Черкесы сметут заставу числом. Надо спешить. Не хочу терять ни одного казака, а Гамаюн вообще братом названым приходится – иконами менялись. Тяжело мне и представить такие потери, но чую я неладное! Сердце не обманешь.
– Добро! – коротко ответил атаман. – Действуй! Тебе вести сотню.
На территории для джигитовки, являвшейся и местом сбора, уже стояли все станичные казаки, в основном верхом.
– Станишные, стройся! – зычно отдал команду сотник Билый.
Казаки выровняли своих коней в линию и замерли как литые в ожидании дальнейших распоряжений своего командира. Среди них выделялся своим высоким ростом Василь Рудь, внук деда Трохима, принесший тревожную весть. Его черная длинношерстная папаха с красным тумаком, расшитым галуном крестом, покрылась слоем дорожной пыли. Лицо сурово, как у всех. Собраны казаки в пружины, готовые к бою.
Пылью были покрыты и черкеска и лицо Василя. Конь его, в мыле, переминался с ноги на ногу, находясь все еще в азарте скачки.
Строевые казаки были в основном все женаты и имели опыт в боевых стычках с черкесами. Парубки, те, что держали сегодня экзамен по джигитовке, пороха еще не нюхали, хотя отваги и смелости им было не занимать. В предстоящей погоне каждый из них мог показать то, чему научился в занятиях по военному делу. Но необстрелянных, не видевших врага вблизи, было опасно и неразумно вести с основной группой.
Поэтому сотник решил поделить казаков на два отряда. В первый в основном вошли казаки бывалые, знающие тактику ведения боя не только по учебникам. Этот отряд должен был пройти по горной узкой тропе ускоренным маршем и выйти на опережение черкесов, чтобы с ходу принять бой. Второй, засадный, отряд Билый сформировал из молодых казаков, приставив к ним в руководство с десяток бывалых и опытных станичников. Среди них был Димитрий Рева – опытный пластун, не один раз бывавший в переделках, хамыляя[10] по пластам, ходивший за зипунами в черкесские аулы. Чин младшего урядника он получил еще на Русско-турецкой войне, когда привел в расположение русских войск ясыра – турецкого офицера, командира табура из низама. Очевидцы того короткого боя говорили, что казак уничтожил турецкое капральство, а это, почитай, десять рядовых. Но сам же Рева скромно отмалчивался, отвечая на все расспросы: «Воля Божья». Приходилось сотнику сталкиваться с турецким низаном, что в стране далекой считались регулярными войсками, и было в ней больше отчаянных храбрецов, чем трусов. С таким врагом всегда считались и уважали. Геройство пластуна не осталось незамеченным – чин младшего урядника и «георгий» на грудь. Именно ему сейчас и поручил Микола Билый присматривать за парубками, отдавая на попечение самое ценное станицы, дабы их горячность и стремление показать себя не испортили все дело.
Идти предполагалось по раздельности. Пройдя пикет и последнюю залогу, отряды должны были разделиться. Засадный отряд выдвигался по долине, вслед черкесам. Основному же отряду предстояло подняться по горной тропе к перевалу и, перевалив за него, спуститься в ущелье, где и предполагалось атаковать черкесов в лоб.
Сотник Билый махнул рукой:
– Гайда! Пошли! – И казаки в боевом порядке двинулись за своим командиром.
За полчаса вышли к пикету. На вышке, упирающейся острой крышей в голубое небо, нес службу Иван Колбаса – крестный отец Василя Рудя, потомок славного запорожского казака Андрия Колбасы, состоявший куренным атаманом у Чапеги. Иван молчаливо приветствовал станичников взглядом. Как бы и ему хотелось впрыгнуть в седло и бок о бок со своими боевыми товарищами развернутой лавой опрокинуть черкесов в стычке. Но служба есть служба. Ее не выбирают. Самовольство у казаков каралось строго. Иван прошептал «Царю небесный…» и «В руце твои…», перекрестил станичников и еще долго сопровождал их взглядом, пока они не скрылись за грядой валунов.
Проезжая мимо валунов, этого природного нагромождения камней, Билый на мгновение обернулся назад. Окинул взором плавни, знакомые ему с детства; высоченные раины[11], словно великаны подпиравшие небо над станицей; излучину Марты, у которой стоял казачий пикет; одинокую фигуру Ивана Колбасы на вышке, смотревшего пристально вдаль и готового при любой опасности не только дать сигнал, но и до последнего дыхания стоять насмерть, каким бы грозным ни был враг; колтычок[12], на котором стояла вышка. Все это родное и близкое для сотника Билого оставалось за его спиной, а он с сотней верных казаков уходил вперед, в неизвестность, чтобы наказать извечных врагов – черкесов.
Чуть позади Билого ехал Василь Рудь. Сотник распорядился, чтобы Василь держался рядом, к тому же Рудь держал в руках дзюбу[13] с сигнальным флажком. Это накладывало на него обязанности вестового, готового по первому приказу своего командира передать этот приказ дальше по сотне.
– Василь, Реву ко мне живо. Пускай рядом будет.
– Есть!
Сотня двигалась шагом. Лошади осторожно ступали по мелким круглым камням, которыми был покрыт берег реки. Билый намеренно не пускал коней рысью. Одно неловкое движение, и конь мог подвернуть или, что еще хуже, сломать ногу. И тогда пиши пропало. Коня пришлось бы застрелить, а казак из верхового становился пешим, что в их ситуации, когда важна каждая минута, недопустимо.
Солнце вошло в зенит. Полуденный зной от безветрия разливался в воздухе, делая его недвижимым. Лишь горная река, бегущая слева говорливо, словно балакачка, освежала временами своим прохладным дыханием крупы коней и лица всадников.
Горный орел парил у вершины. Гордая, свободолюбивая птица высматривала себе добычу среди вековых скал кавказского хребта. Где-то там, вверху, был перевал, к которому вела узкая тропа, известная лишь казакам. По ней, ширина которой была достаточной лишь для одной лошади, и должна была подняться сотня Билого. Спуск с противоположной стороны был более пологим и выводил почти к окраине черкесского аула, куда гнали украденных у казаков коней черкесы.
Сотник поднял голову, провожая орла взглядом.
«Красиво парит. Словно души готов принимать убиенные, – подумал Микола. – Такой же, как и Кавказ. Гордый, непокорный, бесстрашный».
Вот и последняя залога – небольшой форпост, наблюдательный пункт, с которого при появлении черкесов подавался первый сигнал. Залога была устроена так, что холобуда[14], в которой хоронились два казака, была видна лишь с реки. Да и то было необходимо пристально всмотреться, чтобы различить ее на фоне зарослей ивняка, густо произраставшего по берегам реки. Билый сложил ладони вместе и прокричал сычом. На условный знак на мгновение показалась голова станичника в черной, похожей на пирамиду скуфье с клобуком на запорожский лад. Это был Платон Сусло. Опытный пластун, знавший все плавни по реке и умеющий хамылять[15] по ним даже ночью, ориентируясь на Чумацкий шлях[16] и на собственную казачью чуйку. Кивком головы Платон дал понять, что все спокойно, и вновь скрылся в холобуде. Так, нозирком[17], наблюдали казаки в залоге за тем, что происходит вокруг. При малейшей опасности подавался сигнал на пикет, и на пикете запаляли огонь, чтобы дымом сигнализировать в станицу о приближающейся беде.
Здесь, у залоги[18], сотня разделилась на два отряда.
Один, во главе с младшим урядником Ревой, состоявший в основном из молодых, необстрелянных казаков, должен был идти долиной. Тем путем, по которому прошли черкесы с косяком казачьих лошадей. Задача была выполнимая. Идти на достаточном расстоянии от черкесов, избегать боя и следить за ними. Вступить в бой лишь только в случае крайней необходимости, когда силы основного отряда, на долю которого выпадает отбить у черкесов лошадей, будут на исходе.
Второй отряд, ведомый самим Билым, должен был пройти козьей тропой через перевал и, спустившись по пологому склону в ущелье, встретить черкесов в лоб и завязать бой. Нахрапом, не давая варнакам[19] опомниться.
Сотник знаком показал младшему уряднику сблизиться. Димитрий подъехал. Микола уточнил еще раз детали поставленной задачи.
– Вопросы?
– Все понятно, господин сотник!
– Добре. Береги хлопцев, Димитрий, – сказал на прощание Билый. – Не допусти лишнего, а то останемся без молодежи!
И не приказ то был, а наказ, к которому пластун отнесся с пониманием:
– Гарные парубки, або не стреляные. Горячие. Лякаться[20] не будут, но и коныкы вэкэдать[21] могут. Этого нэ трэба. Все сделаю. Добре, Микола, – ответил Рева. – Не сваландим[22]. Улагодым[23] с Богом.
– С Ним и поезжайте. С Богом! – напутствовал Билый и перекрестил отряд.
Сотня разделилась.
Рева повел своих по следам черкесов через долину. А Билый с основной частью отряда взял направление на перевал. Через несколько минут казаки, ведомые младшим урядником, скрылись из виду меж скал ущелья.
Билый дал команду спешиться двум казакам и разведать тропу, ведущую на перевал. Казаки Карабут Осип и Деркач Степан спешились, отдав поводья своих коней товарищам, и, сливаясь с камнями, скользнули к подножию горы. В своих черных черкесках и папахах они были похожи на двух черных ящерок, ползущих по камням, освещенным яркими солнечными лучами. Прошло минут десять. Казаки вернулись с докладом.
– Тропа свободна. Могем идтить. – Разведка прошла успешно, без происшествий.
– Добре, – сотник кивнул, – нет засады впереди, пластуны бы обнаружили.
Билый направил коня к подножию горы, и вскоре уже вся сотня подымалась шагом по тропе, ведущей к перевалу. Шли тихо, не балакая[24]. Было слышно, как внизу шумит река, перекатывая своим течением небольшие камни. По сторонам тропы фиолетовой краской отливал горный чабрец. Аромат его мелких цветков приятно щекотал нос. Далеко впереди скакнула и скрылась за камнями горная коза. Высоко в небе все еще парил орел, сопровождая казаков, словно символ предстоящей победы. Природа жила своей жизнью. Что ей до людей. Они лишь щепки в море мироздания.
Глава 3
Деды
3.1
В светлой горнице, где все окна занавешены белыми короткими шторками, мирно тикали ходики. Живые черные глаза нарисованного кота косили в разные в стороны под ритм отбивания каждой секунды. Сонная муха сидела на подвесной гире, имея твердое намерение начать ползти по длинной цепочке, но отвлеклась и занялась умыванием лапок.
В комнате прохладно, умиротворенно и непривычно тихо.
Марийка, уже переодетая и чистая, неслышно вошла в хозяйский дом, ступая босыми ступнями на чистые выскобленные дубовые половицы, стараясь не наступить на плетеные разноцветные половички-дорожки. Перекрестилась на красный угол. Встала, не смея очи поднять.
За столом, у большого позолоченного самовара с перекинутой по корпусу небрежной ниткой свежих баранок восседал безногий Федор Кузьмич. Крепкий казак для своих лет не считал себя инвалидом или стариком, и хоть и кудри поредели и на затылке появилась плешь – натренированное тело оставалось по-прежнему молодым, а дух бодрым. Кузьмич молча вертел баранку в руке и строго смотрел из-под седеющего чуба. Глазированная сдоба блекла, теряя блеск в пальцах-клещах.
Тишину нарушали ходики.
И хоть и прохладно было в горнице, Марийка сразу взмокла, тревожась с каждой секундой все больше: сердце заходило ходуном, а горло словно пальцы-клещи сдавили – дышать стало трудно до невозможности.
Баранка в руке Федора Кузьмича замерла, и сердце девушки остановилось. Хозяин имел суровый норов и строго наказывал и за менее важные проступки. Марийка бы заплакала, если бы оставались слезы.
В опаленное солнцем окно, оттого горячее до невозможности, ударилась муха и тихо зажужжала, путаясь в горшках с зелеными мясистыми и колючими листьями алое.
– Иди, – тихо сказал Федор Кузьмич.
Марийка встрепенулась, поднимая голову.
– Что? – еле слышно спросила.
– Ступай, – сказал казак и как-то сразу сдулся, старея на глазах. Баранка в его кулаке хрустнула, стираясь в порошок. Марийка кинулась вперед к лавке, упала на колени и уткнулась головой в культи ног. Поднял руку старый казак, но, видя, как содрогаются плечи девушки, осторожно погладил по голове, поправил съехавший платок.
– Ступай, – прошептал хозяин. – Скажи, чтобы бричку готовили. Съездить надо. Помочь людям да посмотреть на место убиения.
3.2
Дед Трохим со стариками, проводив станичников, не торопясь направились к станичному майдану[25]. Было о чем побалакать по-стариковски и вспомнить свою боевую молодость.
– Воны ж усе рослы на глазах станицы. Старики и начальство бачили, як пацаны и верхами управляются, як учатся с рушници[26] палить. Як шашкой кострычат[27], – сказал первый балагур станицы и любитель побрэхэнек[28] дед Трохим. За веселый и неунывающий характер были рады ему в каждом доме, и редкое застолье обходилось без столь именитого казака – каждый считал своим долгом усадить дорогого гостя в центр стола и, чего греха таить, перепить. Только не родился еще в станице достойный соперник для деда. Пил он много, но пьянел редко. Такую особенность легко объяснял:
– Надо знать, что дьяволу продавать.
– Душу? – выдыхал кто-то из слушателей.
– Ага, душу, – передразнивал его тогда дед Трохим. – Печенку, сынку! Печенку!
– Погодь, деда, так ты и дьявола видел?
– Да как тебя, хлопчик!
– Ну, расскажи, расскажи! – И начиналась бесконечная байка. У всех глаза горели, а дед Трохим знай посмеивался в усы.
– Да брешишь ты все, диду! – не выдерживал кто-то из сильно захмелевших гостей за столом. На него шикали, били локтями, наступали на ноги, пытаясь всячески заставить умолкнуть и не обидеть старика. Но тот не сердился, наоборот, смеялся еще больше, приговаривая:
– Брешут собаки у калитки. А я правду балакую. Не веришь? Поди да проверь!
Шагая к майдану, некоторые из стариков держали в руках резные батоги, опираясь на них при ходьбе. Солнце разогрело воздух, щедро заливая своими лучами станицу Мартанскую и ее окрестности. Отяжелевшие от нектара пчелы, жужжа, летели к ульям, возвращаясь от луговых цветов. Пахло медом и разнотравьем.
– А вот ты внуков своих считал, Трохим?
– Внуков-то? А зачем? – Казак даже сбился с неспешного шага.
– А я считал! Восемь у меня их! То-то! Важнее меня, выходит, никого нет. Буду я вами верховодить в новом году.
– Тю, дывись, какой важный, – протянул дед Трохим, – да я внуками считаю всех в станице, кто меня дедом кличет. Вот то количество так количество!
– Так уж и всех?
– А чего? Может, яка стара бабка открыла правду своим детям, а те своим. Так вот внуками и обрастаешь, – назидательно проговорил старик, пряча очередную лукавую улыбку в усах и бороде.
Против такого и возразить нечего. Вздыхали спорщики. Снова уделал их Трохим.
Несмотря на духоту, никто из стариков не снял черкески или папахи. Уважению к одежде казаки учились с детства. Как повелось по традиции и передавалось поколениями.
Одежду они воспринимали как вторую кожу тела и всегда содержали в чистоте, не позволяя себе никогда носить чужую одежду. Папаху же снимали вообще в редких случаях: в церкви, дома и перед сватовством, когда молодой казак бросал папаху в палисад своей суженой. И если казачка выносила папаху и отдавала в руки казаку, то свадьбе быть.
Взбивая подошвами своих мягких ичиг дорожную пыль, старики размеренным шагом, как и подобает людям их возраста, приближались к станице. Пыль оседала на передах и холявах их сапог. Батоги негромко, в такт шагам, стукали по станичному шляху. Вот и первые хаты. Старики остановились для небольшой передышки. Несмотря на почтенный возраст, они были еще достаточно крепки. Их глаза все еще по-молодецки искрились, а во взглядах таились честь и отвага. Со стороны они были похожи на те несгибаемые, крепкие раины, что росли вдоль красного шляха – центральной улицы станицы.
– Туман яром, туман долыною… – донеслось до слуха стариков. Мимо них на длинной арбе, запряженной двойкой лошадей, проехали несколько казачек. Их головы и лица покрывали кутолки. Платок этот казачки повязывали специально для полевых работ, закрывая голову и лицо, так что оставалась лишь узкая полоска для глаз. Тем самым уберегая себя от обилия южного солнца и пыльного ветра. Через свободную, узкую полоску ку-толки можно было разглядеть искрящийся, с нотками строгости, дерзкий и колющий взгляд. Как говорили казаки, жоглый погляд.
«А глаза казачек. Что это за глаза! Они словно большие вишни, с жарким огоньком бездонной души. – Дед Трохим зажмурился, вихрем уносясь в беспокойную молодость. – Такие женщины поистине могли остановить не только коня на ходу, но и добрую сотню басурман, что случалось в истории казачьего народа не раз».
На плечах казачек, пока казаки были заняты военным походом, лежало все хозяйство. Не только свое личное, но и общее, станичное. Вот и сейчас, трясясь в арбе и тихо напевая старинную казачью песню, казачки держали путь к станичной бахче[29]. На летней жаре арбузы быстро наливались спелостью. Нужно было прибирать, чтобы урожай не пропал.
– Прыхыльно спивають, – заметил дед Трохим под одобрительное кивание остальных стариков, крутя по-молодецки седые усы. Даже батог захотелось в высокий бурьян закинуть, но лишь распрямился, расправив плечи.
– Внученьки, – зацокал Егорыч одобрительно языком. И куда сонливость девалась? Ведь два дня молчал! И не вздыхал даже, а тут расцвел и отмер. Старик-балагурщик посмотрел на долговязого друга детства и хмыкнул, увидев, как тот утирает скупую слезу радости.
– Здорово живете, бабоньки! Кудысь поспешаете? – поприветствовал Трохим казачек.
– Слава богу, дидо! И вам того же! До бахчи идэмо. Кавуны поспели. Трэба збирати, – ответила правящая конями Аксинья Шелест.
– Вот то дило!
– Бог в помощь, красавицы! – дед Трохим по-молодецки подмигнул Аксинии – оно и понятно, война войной, а про бабонек забывать нельзя. Шелест, не удержавшись, прыснула от смеха, покачала головой и крутанула конец длинных вожжей, пугая лошадь, а заодно и шальные мысли деда.
– И вам не хворать, дидочки.
– Аж кровь забурлила, – признался старик-балагур сотоварищам, когда подвода отъехала, скрипя колесами. – Полвека скинул сразу.
– Да шо там полвека! Как заново родился! – Егорыч попытался присеть, но передумал. Снова тяжело вздохнул. Трохим не дал скучать, застучал батогом, привлекая внимание:
– Сейчас еще заспиваем в теньке, забудешь все печали.
– Казачек наших краше нэма, поэтому и забурлила. Кудыть там хохлошкам! И вытрындыкувать горазды, и работать добре, – подхватил сосед деда Трохима по улице Гаврило Кушнаренко, худой старик с окладистой бородой по пояс. На солнце под длинными выбеленными волосами на груди поблескивали серебряные старинные медали. Первый герой станицы – никто такого количества больше не имел.
– То так, – важно согласился Егорыч, степенно дубовой палкой ковыряясь в пыли шляха. – Но, кажись, бабка твоя, первая жена Филимона, турчанкой была? Ась?!
Кушаренко грозно глянул из-под ветвистых бровей:
– Не турчанкой! С Персии ее дед привез, с похода дальнего. Любил сильно.
– Мабудь, от той любви она и умерла? – подсказал дед Трохим, скрывая хитрую улыбку и ладошкой оглаживая бороду.
– То дело прошлое и нам скрытое. Девки же наши станичные не чураются мантулыть[30], работая и за себя, и за нас, казаков. И, даже ухайдакавшись, не помышлют сваландать[31]. Крепкий тыл нам, казакам. Вот про шо я. Храни их Бог.
– Добрэ гутаришь, шабэр[32]. Без казачки казак – сирота, – согласился дед Трохим, кивая, в мыслях уже режа кавун сладкий, принесенный с погреба. Вздохнул печально.
И остальные старики, думая также каждый о своем, смотря вслед удаляющейся арбе с казачками, одобрительно закивали седыми головами, покрытыми черными длинношерстными папахами.
Егорыч внимательно посмотрел на Кушаренко:
– А я слыхал, что дед твой тайком отвез ее обратно в Турляндию.
– Да с Персии она была! – в сердцах выкрикнул дед Гаврило.
– Что дед твой так ее любил, что сердце его сжималось, когда он смотрел, как она мучается, тоскуя по Турляндии своей. Вот и отвез. Так старики в то время гутарили.
– Так с Персии ж, – задохнулся в негодовании Кушаренко. Дед Трохим похлопал его по рукаву успокаивающе.
– Глуховат наш Егорыч на ухо, не злись, Гаврило. Бомбардиром же был. Забыл, что ли?
– Кто глуховат? О ком вы? – вскинулся Егорыч, весь подбираясь и беспокоясь. – Никак ты, Трохим, заплохел?
– Хай им грэць[33]! Не дождетесь!
Передохнув, старики потепали дальше. Летний зной одолевал, а на майдане, усаженном тополями, было где укрыться от полуденного солнца. Высоченные раины давали обильную тень, и под ними, на завалинках, можно было отдохнуть и вдоволь наговориться, благо новостей хватало.
Майдан[34] пустовал. Казаки были в походе, казачки работали. Ватага малых казачат, сгуртовавшись[35], играли в чижа. Водил Сашко Молибога – внук Трохимова баджанаха[36] Парфентия Молибога. Он ловко подбрасывал оцупок[37] и ударял по нему батогом[38], не оставляя шанса своим товарищам поймать деревянный брусок. Улочка наполнялась звонкими криками ребятни.
Старики расселись на завалинке, утирая влажные от пота лбы.
– Сашко! – позвал внука Молибога дед Трохим. – Иди сюда. Драголюбчик[39], будь ласка[40], принеси холодного квасу.
Сашко без тени сожаления побежал домой выполнять просьбу деда Трохима. Бросив по пути игравшим товарищам:
– Грайтэ покамэст без мэнэ. Я швыдко[41].
Старики ж тем временем завели разговор о событии, всколыхнувшем мирную жизнь станицы.
– Як там хлопцы наши? Чи дошлы, чи ни? – задумчиво произнес Гаврило Кушнаренко, оглаживая бороду.
– Гарны казаки повырастали. Добрые, – вставился Егорыч.
– Воны ж усе рослы на глазах станицы – не посрамят, – протянул дед Трохим.
– То так. Хотя и всэ у них и думкы и отвага и булгачить добре могут, и в плавнях як в хате ридной, або молодые еще, не стреляные. Вот и турбуюсь за них, – продолжал дед Кушнаренко и запечалился, глаза заслезились.
– Нелякайся[42], шабэр[43], – глубоко вздохнув, ответил дед Трохим. —Конь не выдаст, варнак[44] не съест.
– То так, – согласился Гаврило, – но тревожно мне на душе. Ноет подлюга.
Слово за слово, разговорились старики.
Вспомнили свою лихую молодость. Как хамыляли[45] по пластам в плавнях, как били черкеса, наказывая за безграничную наглость, как несли нелегкую службу на чужбине, как дневали и ночевали в залогах и на пикетах, охраняя покой родной земли. У каждого из них было что вспомнить. Не торопясь, гутарили видавшие виды, но все еще крепкие воины. Казаки рождались на седлах, на них же и уходили в мир иной. У каждого из стариков среди ушедших в поход казаков был родственник. Сын, внук, брат. Да что там мудрствовать лукаво. Каждый из станичников был другому побратимом. Не один пуд соли съели они в делах ратных. И радость, и печаль делили поровну на всех. И если журились-сумувались[46], то всем миром, станишно. Ну а если уж вытрындыкувать[47], то также всей станицей.
