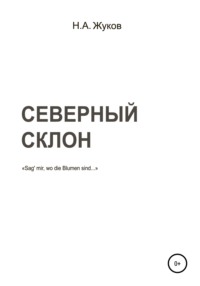Czytaj książkę: «Северный склон», strona 3
Каждой роте были даны вводные и поставлены задачи. Мне, как командиру отделения Управления, было поручено осуществить скрытный маневр батальона (этот батальон эмитировала 1-я рота), незамеченными для противника совершить обход и вывести его в тыл противника к роще «Н». Разыграв эти «баталии», через 2–2,5 часа погрузились в вагоны.
В пути следования был сделан разбор «боевых действий», который показал хорошую боевую выучку автоматчиков и командиров подразделений. Мои действия были оценены удовлетворительно и сделан ряд замечаний.
По мере приближения к фронту чувствовалась его близость. Об этом наглядно свидетельствовали разрушенные бомбежкой вражеской авиации вокзалы, железнодорожные полотна, станционные постройки.
Днем проезжаем станции Петропавловск, Владимировку. Сомнений быть не может: едем на Сталинградский фронт. С наступлением темноты прибываем на ст. Капустин Яр. Разгрузка из вагонов происходит молниеносно, т.к. в любую минуту возможен налет вражеской авиации.
Со своим отделением и штабом батальона сразу же после выхода из вагона броском удаляемся подальше от станции. Не успели мы отдышаться, как услышали свист, а затем взрыв бомб. Впоследствии выяснилось, что при разгрузке кто-то пренебрег светомаскировкой – и пролетавший над станцией вражеский самолет, воспользовавшись этим, сбросил несколько бомб – в результате у нас появились первые жертвы.
Отдохнув до утра в специально заранее приготовленных шалашах, пешком по ротно идем к переправе через Волгу. Эту русскую реку мне довелось увидеть близко впервые.
Переправились. Достигли с. Слободы, в котором в течение светового дня находились в укрытиях: в сараях, клунях, крестьянских домах. Такая предосторожность понадобилась для маскировки от вражеской авиации, которая тогда еще имела превосходство в воздухе.
По расписке председателя местного колхоза отпустили на наш батальон два мешка муки. Наши повара наварили и накормили нас мамалыгой (затиркой). После ужина перед нами поставлена задача – до рассвета достичь г Красноармейска, и в путь. В эту ночь тяжело нам достался этот более чем сорокакилометровый путь.
Много было отстающих, особенно из числа моряков, –сказывалось отсутствие натренированности дальних переходов. Преодолевая это расстояние, мы впервые увидели зарево Сталинградского фронта.
В г. Красноармейске, так же как и в с. Слобода, днем находились в укрытиях, а вечером, с наступлением темноты, совершаем марш к линии фронта. Впереди Бекетовка. На окраине этого поселка нас встречает начальник оперативного отделения 960-й СБР капитан М. П. Аглицкий, который на ходу знакомит командный состав с обстановкой на фронте и отведенном для бригады участке.
От него мы узнаем, что наша бригада меняет 422-ю и 157-ю строевые дивизии, так как в изнурительных боях с врагом они понесли тяжелые потери и отводятся на отдых и доукомплектование. Сменив эти дивизии, наша бригада заняла боевые порядки и рассредоточилась на заданном участке. Это произошло 19–20 октября 1942 года.
Цитата из личного дневника начальника генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии генерал-полковника Ф. Гальдера:
«…14 января 1942 года. 207-й день войны.
Потери с 22.06.1941 по 10.01.1942: Ранено – 19 564 офицера, 628 325 унтер-офицеров и рядовых; убито – 7 337 офицеров, 173 455 унтер-офицеров и рядовых; пропало без вести – 674 офицера, 38 611 унтер-офицеров и рядовых.
Итого потеряно 27 575 офицеров и 840 391 унтер-офицер и рядовых.
Общие потери сухопутных войск, не считая больных, составили 867 966 человек, т.е 27,12 процента средней численности всех войск Восточного фронта (3,2 млн).
4 сентября 1942 года. 440-й день войны.
Потери с 22.06.1941 по 31.08.1942: Ранено – 1 189 928 человек, из них 33 596 офицеров; убит – 326 791 человек, из них 1033 офицера. Всего 1 589 082 человека, из них 46 701 офицер…»
49,65% средней численности всех войск Восточного фронта (3,2 млн).
На следующий день после смены бригада уже вступила в боевые действия с врагом. Первое боевое крещение наши роты и взводы автоматчиков, приданные стрелковым батальонам и ротам, получили в боях за Купоросное, в числе которых на участке 1-го стрелкового батальона довелось быть «обстрелянным» и мне.
На второй день после первого боевого крещения меня вызвал к себе командир батальона автоматчиков Головин и приказал немедленно сдать отделение и отправиться в распоряжение командира 96-й ОСБР полковника Артемьева Георгия Николаевича, что я сразу же и сделал.
КП командира бригады находился примерно в 300–400 метрах от переднего края в блиндаже, вырытом в склоне балки Ягодной, что у Лапшина сада. На КП командира бригады я добрался в разгар боя, который вела бригада. Боем руководил ее командир с блиндажа, подвергавшегося беглому артналету немцев из шестиствольных минометов. Короткими перебежками мне удалось приблизиться, а затем вскочить в блиндаж, но в этот момент от прямого попадания в блиндаж с перекрытия посыпался песок, земля, погас свет, был порван телефонный кабель. Несмотря на это в блиндаже был наведен относительный порядок, восстановлена телефонная связь, и командир продолжал руководить боем.
В минуту «затишья», выбрав удобный момент, я доложил командиру о своем прибытии. Не вдаваясь в подробности, полковник Г. Н. Артемьев на ходу сказал: «Будете при мне». Ответив «есть», я остался на КП.
Находясь в распоряжении командира 96-й ОСБР полковника Г. Н. Артемьева, мне довелось выполнять отдельные его приказы и распоряжения, то есть выполнять обязанности порученца. Жить мне довелось с ним в одной землянке, питаться «с одного» котелка.
Если он был занят или у него появлялась возможность и он отдыхал, мне приходилось принимать сообщения, поступавшие из подразделений на КП, наносить на карту «вчерне» изменения обстановки и т.д., а затем командир 96-й ОСБР изучал их, уточнял, принимал решения, отдавал лично приказы или распоряжения, а некоторые поручались передать мне. По поручению полковника Г. Н. Артемьева мне часто приходилось бывать на переднем крае всех подразделений 96-й ОБСР и в родном батальоне автоматчиков.
Из событий битвы за Сталинград известно, что в двадцатых числах октября 1942 года немецким фашистам удалось раздробить на части передний край 62-й армии, оборонявшей собственно город, прижать ее к Волге, а местами достичь ее берега. Вследствие этого 62-я армия оказалась в крайне критическом положении.
Чтобы спасти Сталинград от захвата врагом, облегчить столь тяжелое положение 62-й армии и оттянуть на себя часть фашистских войск Паулюса, командованием 64-й армии в бой с ходу был введен 7-й стрелковый корпус под командованием генерала С. Г. Горячева в состав которого входила и наша 96-я ОСБР.
Тогда же партия обратилась к сталинградцам с призывом преподнести матери-Родине подарок – разгромить фашистские орды у стен Сталинграда к 25-й годовщине Великого Октября, которая отмечалась 7 ноября 1942 года.
Этот призыв партии армейскими политорганами был доведен до каждого бойца и воспринят воинами как святое дело каждого защитника твердыни на Волге.
Тогда же полковник Г. Н. Артемьев в штабе 7-го СК получил боевую задачу – в случае общего успеха 96-й ОСБР ворваться в город и вести бои по очищению от врагов его улиц.
В целях оказания соответствующей помощи партийными органами Сталинграда в 96-ю ОСБР было направлено несколько человек проводников из числа местных жителей, хорошо знающих город и расположение улиц, за которые бригада должна была вести бои.
Боевую задачу перед проводниками и командирами подразделений поставили командир 96-й ОСБР полковник Г. Н. Артемьев, его заместитель по политчасти подполковник М. П. Поляков и начальник штаба бригады полковник В. В. Минеев.
Как развивались боевые действия 7 СК и его бригад в целом на участке фронта 64-й армии в период с 25 октября по 3 ноября 1942 года и как была выполнена задача нашим СК, достаточно хорошо изложено в воспоминаниях командующего 64-й армией Героя Советского Союза генерала С. М. Шумилова и комкора 7-го, а затем 35 Гвардейского стрелкового корпуса, генерала С. Г. Горячева.
Однако нелишне будет упомянуть о том, что бои на участке нашей 96-й ОСБР за Купоросное, Зеленую Поляну и др. носили тяжелый и ожесточенный характер. Враг не хотел отступать, но и нам некуда было отходить, так как за Волгой земли для нас не было.
Идя в бой, ребята нашей бригады сбрасывали с себя гимнастерки, надевали бескозырки и в тельняшках, с криком «За родину», «Ура» и «Полундра» шли в атаку. Враг не выдерживал таких матросских «привычек» и отступал.
Бывший мой командир по взводу в Камышловском общевойсковом училище ст. сержант Паппель в бригаде занимает такую же должность, как и я, но только в разведроте.
Мы с ним часто видимся, радуемся успехам наших однополчан, тяжело переживаем наши неудачи и гибель сослуживцев.
В канун общего наступления Сталинградского и Донского фронтов по окружению вражеской группировки Паппель, выполняя разведзадание, возвратился раненым в голову, помогаю ему чем могу. Его отправляют в госпиталь, прощаемся, желаем друг другу победы над врагом. Оба прослезились от досады за его неудачу.
В связи с подвигом, совершенным А. Матросовым, мне хотелось бы рассказать и о случае, имевшем место в нашей 96-й ОСБР. В те дни боев за Сталинград с 25 октября по 3 ноября 1942 года автоматчик (если я не ошибаюсь) 3-го взвода, но 1-й роты отдельного батальона автоматчиков рядовой Ивченко (его имени, отчества и откуда он не помню), как мне представляется, совершил ратный подвиг, аналогичный подвигу А. Матросова и несколько ранее его, а именно:
Подразделение, в котором находился Ивченко, вело наступление. Продвижению автоматчиков вперед мешал вражеский пулемет, который своим огнем прижал их к земле. Неоднократные попытки подавить эту огневую точку врага успеха не имели.
Тогда Ивченко по своей инициативе встал во весь рост и с криком «За Родину», «За Сталина», ведя на ходу огонь из своего автомата, побежал на амбразуру ДЗОТа, в котором засел вражеский пулеметчик. Добежал до нее, но тут же был сражен пулеметным огнем врага. Ивченко упал у амбразуры. Своим телом он закрыл сектор обзора и обстрела. Вследствие этого враг был лишен возможности вести огонь по наступавшим. Автоматчики поднялись, пошли в наступление и имели успех.
Мне представляется, что Ивченко совершил героический подвиг, но это требует уточнения и проверки. И кто знает: возможно, это будет первым или 207-м подвигом, подобном подвигу А. Матросова.
Нельзя не сказать несколько слов о командире 96-й ОСБР полковнике Артемьеве. Запомнился он мне свыше пятидесятилетнего возраста. Внешне несколько полный, даже грузный, но эта полнота не мешала ему всегда быть подтянутым, собранным и бодрым. По характеру спокойный, выдержанный, немногословный, тактичный, расчетливый и решительный командир. Мне не довелось услышать, чтобы он повысил свой голос на кого-либо из подчиненных, даже в самые тяжелые минуты боя или обстановки для бригады. За казавшейся застенчивостью скрывались его высокая требовательность и культура военачальника и человека.
В середине ноября 1942 года полковник Г. Н. Артемьев был назначен на должность начальника оперативного отдела 51-й или 57-й армии, куда и убыл. После этого мне не довелось с ним встретиться.
В командование 96-й отдельной стрелковой бригадой вступил майор Петр Дмитриевич Четвертухин, занимавший до этого должность командира 29-го стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 64-й, впоследствии 7-й гвардейской армии. С ним на должность адъютанта прибыл младший лейтенант Михаил Федосеевич Климчук, ныне полковник, проходит службу в должности заместителя военного комиссара Ворошиловградской области.
Распрощавшись с полковником Г. Н. Артемьевым, пожелав друг другу успехов на новом месте, майор П. Д. Четвертухин спросил о выполняемых мною обязанностях. Я доложил, что «при полковнике» выполнял… Выслушав меня, он ответил: «А теперь эти обязанности будете выполнять "при майоре"». Я ответил «Есть». С этого дня я включился в новую «семью», и так втроем жили в одном из «казематов» знаменитой водосточной «трубы» под полотном железной дороги, в которой размещались КП и штаб нашей бригады, а затем в землянке, вырытой под тем железнодорожным полотном в нескольких метрах от «трубы». Питались, делили радости боевых успехов горести неудач втроем.
Новогодняя ночь
Хотелось бы сказать несколько слов о знаменитой «трубе», о которой вспоминает в своей «Незабываемой фронтовой ночи», помещенной в газете «Правда» за 1973 год, бывший фронтовой корреспондент армейской газеты «За Родину» Гриневский Вячеслав Викторович. И вот почему. Свидетелем событий, о которых Гриневский В. В. рассказывает в упомянутом очерке, довелось быть и мне.
После того, как Всесоюзный староста М. И. Калинин выступил по радио с новогодней речью и поздравил советский народ и воинов Советской Армии с Новым 1943 годом, в честь этого было осушено содержимое солдатских кружек, майор Четветухин П. Д. приказал мне пойти вместе с Гриневским В. В. на передний край.
Учитывая, что в ту новогоднюю ночь действительно дул злой, колючий и пронизывающий насквозь морозный ветер, командир бригады распорядился на передовую с корреспондентом идти кратчайшим путем, с тем чтобы меньше находиться на таком «воздухе».
Я доложил командиру, что на передний край всегда хожу через минное поле у Лапшина сада, другого кратчайшего пути туда не знаю. Майор Четвертухин П. Д. приказал назначить для этого другого товарища, с которым Гриневский В. В. и ушел. Мне же майор Четвертухин П. Д. сделал такое доходчивое разъяснение, что я стал знать и другие «обходные» пути к подразделениям нашей бригады.
Солдатская смекалка
Смена командира 96-й ОСБР произошла где-то числа 15–17 ноября 1942 года, а наступление Сталинградского фронта по окружению вражеской группировки под Сталинградом началось 19 ноября.
С указанного дня перед частями 7-го СК, в том числе и перед 96-й ОСБР, была поставлена боевая задача – сдержать кольцо окружения войск врага на своем участке фронта и не дать ему возможности прорвать его и уйти от возмездия.
В связи с тем, что войска 7-го СК в наступлении не участвовали, пополнение к нам не поступало. Майор Четвертухин П. Д. неоднократно просил генерала Горячева С. Г. пополнить бригаду людьми, но командир всякий раз отвечал, что резервов у него нет. А людского состава в бригаде оставалось так мало, что «гармошка», как выражался майор Четвертухин П. Д., была растянута до предела и создавалась реальная угроза возможного прорыва противником.
Если враг знал, что занимаемый нами теперь рубеж, по сути, был оголен, он непременно воспользовался бы этим. Дело дошло до того, что на одном участке нашей бригады один боец обеспечивал две огневые точки станковых пулеметов, а именно: постреляв из пулемета на одной огневой точке, он переходил к другому такому же пулемету и вел огонь по врагу. В результате у врага складывалось впечатление, что эти огневые точки станковых пулеметов «полноправные».
И об этой солдатской смекалке и находчивости майор Четвертухин П. Д. доложил генералу Горячеву С. Г. Комкор приказал смекалистого бойца представить к награде, но в выделении резерва отказал. К сожалению, фамилию храбреца не помню.