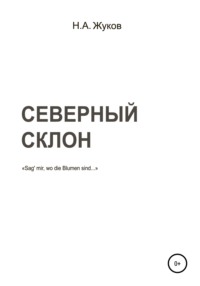Czytaj książkę: «Северный склон», strona 2
Зная о том, что мы воспитанники училища и «шефст-вуем» над ними, некоторые из них подходили к нам и в непринужденной, сердечной форме беседовали с нами. При этом они интересовались нашими делами, планами на будущее, давали отцовские напутствия. Так беседовали со мной И. М. Москвин и А. К. Тарасова перед выходом на сцену во время постановки «Три сестры».
Осенью 1940 года прославленный коллектив МХАТа отмечал 42-летие со дня основания своего театра. На это торжество были приглашены шефы – отличники боевой и политической подготовки нашего училища, в числе которых был и наш духовой оркестр, исполнивший ряд музыкальных произведений в одном из фойе театра.
Состоялась торжественная часть. С докладом выступил В. И. Немирович-Данченко, который и сообщил о награждении орденами и медалями Союза ССР ведущих артистов театра.
В тот вечер мне впервые удалось увидеть прославленного советского летчика, дважды Героя Советского Союза генерала Г. П. Кравченко, обращавшего на себя внимание не только высокими правительственными наградами, двумя золотыми Звездами Героя, но и подтянутой внешностью и стройной выправкой.
Однажды весной 1941 года мой сослуживец Николай Мирошниченко предложил мне поехать с ним на киностудию «Мосфильм» – сняться в кино. Такое его предложение меня удивило. Поняв это, Николай успокоил меня тем, что снимать нас будут не в главных ролях, а в так называемых массовых сценах, и объяснил, что нас туда приглашает режиссер-постановщик фильма «Сердца четырех» Юдин. Я согласился. Директор оркестра Б. Л. Бондарев нам разрешил поехать на киностудию с условием, что к 12 часам мы возвратимся в часть.
Приехав на киностудию, мы узнали, что будем сниматься в кинофильме «Сердца четырех», многие сцены которого уже отсняты в летних лагерях нашего училища на станции Кубинка, в 70 км от Москвы по Можайскому шоссе.
Мы переоделись в форму рядовых танкистов и совместно со старшим лейтенантом Колчиным (артист Самойлов) командиром танкового полка подполковником Антоновым, (артист ф.и.о. не помню) и другими находились для отснятия кадра в ожидании актрисы Серовой, игравшей в этом фильме роль молодого ученого-математика.
В этот день планировалось отснять кадр встречи командира полка подполковника Антонова с Галиной Мурашовой вечером в клубе полка, где она ему рассказывает в фойе об успешно проведенных накануне занятиях с командным составом полка, что она осталась довольна и согласна в таком составе и впредь проводить занятия.
В действительности же на эти занятия явился только старший лейтенант Колчин. Между Колчиным и Мурашовой на занятиях произошел инцидент, из которого они поняли, что неравнодушны один к другому.
Во время этой беседы Антонова с Мурашовой нужно было создать в фойе обстановку, типичную для клуба воинской части, в которой отдыхают солдаты и командиры части. Вот эту-то сцену в числе других мы и «играли».
Отработка и съемка этого кадра фильма были назначены на 10 часов утра. В указанное время Серова позвонила и сказала, что она задерживается на репетиции в театре и на студию приедет к 11 часам 30 мин. – 12 часам. Решили ждать. Однако она снова позвонила,… короче говоря, приехала она к 17 часам, и эта сцена была отснята.
Оставшись довольными тем, что мы оба «попали в кино», уехали в училище, а когда возвратились, то узнали, что оркестр по наряду коменданта Москвы уехал на игру. Беды не миновать! После возвращения оркестра с игры капельмейстер Б. Л. Бондарев перед строем объявил нам по 15 суток неувольнения в город.
В наши дни, когда демонстрируется этот фильм, я иногда хожу на его просмотр, кроме описанного эпизода вижу еще и себя стоящим перед строем оркестра, и мне объявляется дисциплинарное взыскание. Что сделаешь, – так было…
Это был 1941 год. Пламя Второй мировой войны уже бушевало на Европейском и Азиатском континентах. В Европе фашистской Германией порабощены Польша, Чехо-словакия, повержена Франция, оккупированы Бельгия, Голландия, Дания и Норвегия. Возникла угроза вторжения немецких фашистов в Англию. Фашистская Германия подчинила себе Венгрию, Румынию и Болгарию.
Итальянские фашисты хозяйничали в Албании и Северной Африке. Япония – в Юго-Восточной Азии.
На политзанятиях и лекциях лекторы и пропагандисты все чаще и чаще говорят об агрессивных устремлениях фашистских режимов Германии, Италии и милитаристской Японии. О напряженной обстановке в мире, подозрительной возне у государственных границ Союза ССР, строительстве новой линии Маннергейма и восстановлении разрушенных ДОТах и ДЗОТах.
По некоторым предпринимаемым мерам догадываемся об усилиях Верховного Командования Красной Армии, направленных на укрепление обороноспособности наших войск. Так, в нашем училище в апреле и мае 1941 года на год раньше состоялись ускоренные выпуски курсантов и слушателей. Оставшиеся стали заниматься по сокращенной программе. Выпускников училища в абсолютном большинстве направляют в войска, дислоцирующиеся у западных границ страны и Прибалтики. Нас чаще предупреждают о бдительности.
22 июня 1941 года – воскресный день, обычный выходной день. Однако увольнение в город курсантам и даже слушателям почему-то отменено. Нам выходить из училища запрещено. Командный состав училища ведет себя как-то не так, как всегда. У всех выражение лиц озабоченное, серьезное. Видно по всему, что произошло что-то серьезное и важное, но что именно, мы, музыканты, пока не знаем.
Где-то часов в 11 к нам в подразделение пришел бывший воспитанник оркестра, а теперь курсант училища Женя Петров, который нам «по секрету» и рассказал о вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину. В 12 часов того же дня состоялось выступление по радио Наркома Иностранных дел СССР В. М. Молотова. Из сделанного им заявления Советского правительства стало известно о навязанной советскому народу Великой Отечественной войне. В училище сразу же состоялся митинг. Все участники митинга заклеймили вероломство врага и поклялись защищать Советскую Родину до последней капли крови.
Наш оркестр играл сезон на детской площадке, а вечером – на эстраде Парка культуры и отдыха им. А. М. Горького. В связи с войной в парке не играем. Теперь наш оркестр целиком и полностью выполняет возложенные на него функции по училищу. В основном находимся в летних лагерях на станции Кубинка, но некоторая часть личного состава оркестра несет службу на зимних квартирах в училище. После войны в этом здании размещалась академия Генерального штаба Министерства обороны СССР им. К. Е. Ворошилова, а в наши дни – Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
3 июля 1941 года вскоре после подъема было объявлено о том, что по радио будет передано важное правительственное сообщение. Ровно в 8 утра по радио выступил с известным обращением к народу Председатель Государственного Комитета Союза ССР И. В. Сталин.
По поручению ЦК партии и правительства И. В. Сталин рассказал народу о смертельной опасности, нависшей над Родиной, потребовал покончить с благодушием, беспечностью, о перестройке на военный лад и мобилизации всех сил на разгром врага. Это выступление нельзя было слушать равнодушно. Сразу же после окончания выступления председателя ГКО по радио в подразделениях и у нас были проведены беседы.
Где-то часов в 9–10 утра в июле (даты точно не помню) 1941 года откуда-то с высоты раздался сильный пронзительный шум со свистом, и тут же, снижаясь, пронесся падающий неизвестный самолет и упал в 2–3 км от лагеря нашего училища в сторону г. Можайска. В том же направлении пролетело несколько наших истребителей. Через 20–30 минут мы узнали, что нашими истребителями был сбит фашистский стервятник. В 12 часов этого же дня в последних известиях на всю страну было передано о том, что на большой высоте над Москвой был обнаружен и сбит фашистский самолет-разведчик.
Через несколько дней этот самолет был выставлен в городе Москве на пл. Свердлова для всеобщего обозрения.
Ровно через месяц, 22 июля 1941 года, фашистская авиация пыталась совершить первый массированный налет и бомбить Москву. Эта попытка врага нашей истребительной авиацией ПВО была сорвана. Но враг не отказался от своих планов и продолжал совершать такие попытки. Незначительной части вражеских самолетов все же удавалось прорваться к Москве, сбросить фугасные и зажигательные бомбы. Научившись бороться с зажигательными бомбами во время налетов, мы собирали сброшенные «зажигалки», а упавшие на территорию училища – уничтожали.
В конце 1941 года Борис Титовский, Анатолий Евполов и я написали патриотические рапорта и были переведены курсантами в общевойсковое училище им. Верховного Совета РСФСР, готовившее командные кадры, командиров-общевойсковиков. Летние лагеря училища находились под Москвой в районе г. Солнечногорска, где мы проходили учебу.
По соседству с лагерем этого училища размещался лагерь народного ополчения. С ополченцами мы часто встречались на занятиях по тактике и во время «перекуров» передавали им свои познания по боевой подготовке.
В сентябре 1941 года меня отозвали из этого училища в Военно-политическое училище им. В. И. Ленина, в котором я снова стал нести службу в том же оркестре. А мои сослуживцы Борис Титовский и Анатолий Евпилов остались в общевойсковом училище РСФСР.
К осени 1941 года враг все ближе и ближе подходил к Москве. На защиту столицы направлялись все новые и новые части. В сентябре 1941 года из курсантов училища им. Верховного Совета РСФСР был сформирован курсантский полк под командованием полковника С. И. Младенцева. Этот полк в составе легендарной 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор И. В. Панфилов, в грозные дни октября 1941 года сражался под Волоколамском.
В одном из боев за столицу нашей Родины на Волоколамском направлении способный кларнетист, бывший воспитанник оркестра Московского дважды Краснознаменного военно-политического училища им В. И. Ленина Борис Титовский из Бутурлиновки Воронежской области, мечтавший играть в оркестре Государственного Большого театра Союза СССР, отдал свою жизнь за честь и независимость Социалистической Родины.
Анатолий Евполов – москвич, с Преображенки, что в Сокольниках, был тяжело ранен. После войны сбылась его мечта: он стал играть в оркестре одного из ведущих театров его родного города.
Нельзя не сказать о том, что командир курсантского полка полковник С. И. Младенцев стал заслуженным военачальником Советской Армии. Именно он, впервые в истории войн, во время финской кампании применил тактику ночного боя и вышел из него победителем. За этот подвиг он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В училище занимал должность начальника цикла тактики. В отставку ушел после войны с должности начальника этого училища в звании генерал-лейтенанта.
Мне хотелось бы несколько слов сказать об одном фотоснимке, встречающемся в нашей исторической литературе, – это выступление старейшего деятеля Коммунистической партии Е. М. Ярославского перед воинами, отправляющимися на фронт. Глядя на этот снимок, мне вспоминается сразу несколько событий.
Во-первых, этот снимок фотокорреспондентом сделан в последних числах сентября 1941 года в летнем клубе в лагере нашего училища га ст. Кубинка в момент, когда Е. М. Ярославский произносил речь перед курсантами 2-го батальона нашего училища, отправлявшегося на фронт.
После яркого выступления Е. М. Ярославского и клятвы, данной курсантами защищать Советскую Родину до последнего дыхания, мы оркестром сопровождали их на станцию Кубинка, откуда они отправились на фронт в сторону Можайска.
Во-вторых, по случаю встречи Нового 1942 года в клубе училища состоялся новогодний бал, на котором замначальника училища полковник С. М. Смирнов произнес здравицу в честь курсантов этого фронтового батальона.
Курсантам этого батальона были оказаны высокое доверие и честь – они защищали и вели бои с врагом на историческом Бородинском поле.
Батальон с честью сдержал свою клятву и возвратился оттуда в январе 1942 года в город Шадринск победителем над немецко-фашистскими захватчиками под Москвой.
В составе этого батальона на Бородинском поле сражался и воспитанник нашего оркестра, а затем курсант училища Женя Петров.
На Бородинском поле навсегда остался курсант Шкурин, обладавший хорошим голосом (тенор) и так чудесно исполнявший песню «Ах ты Вася, Василек», пользовавшийся всеобщим уважением курсантов училища.
И, в-третьих, то, что полковник С. М. Смирнов ушел добровольцем на фронт, был командиром 29-й Гвардейской Унечской мотострелковой бригады, входившей в состав добровольческого Уральского танкового корпусов. Эта бригада под его командованием отличилась при штурме города Каменец-Подольска в марте 1944 года, но там же оборвалась и его жизнь, отданная за честь и независимость Социалистической Отчизны.
Наступили тяжелые дни обороны Москвы. Враг рвался к городу. Москва объявлена на осадном положении. 26 октября 1941 года наше училище эвакуируется в город Шадринск, куда наш эшелон прибыл и разгрузился 5 ноября. В первых числах декабря 1941 года со всем советским народом радовались и мы победе наших войск над немецкими фашистами, одержанной в битве за Москву.
Фронт требовал все новых и новых резервов. В связи с этим производились сокращения штатов в нестроевых подразделениях, которое коснулось и нашего оркестра.
В марте 1942 года Клычева Василия, Левшина Николая и меня отчислили из оркестра училища и откомандировали в 163-й Запасной стрелковый полк, дислоцировавшийся в д. Кашкарово, что в 7 км от г. Камышлова, Свердловской области, в который мы и прибыли для пополнения.
Но в день прибытия в полк нас узнал комиссар полка – ст. политрук тов. Поворознюк. Комиссар нас пригласил к себе и в задушевной беседе рассказал нам, что он был слушателем нашего училища, о тяжелой обстановке на фронте и трудностях в полку. Попросил без стеснения заходить к нему. По его указанию нас зачислили в оркестр полка.
В последних числах марта 1942 года в так называемых Еланских лагерях, в гарнизон которого входил и 163-й ЗСП, прибыл член ГКО страны Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов с известными, определенными целями и задачами.
Тогда в одном из подразделений произошел любопытный случай, свидетельствующий об ответных мерах находчивости на находчивость, которая в те годы широко практиковалась в рядах Красной Армии, заключающаяся в следующем.
В связи с пребыванием в гарнизоне столь высокого военачальника, каким был К. Е. Ворошилов, в частях и подразделениях кроме усиления боевой подготовки было уделено большое внимание наведению и внешнего порядка.
В таких заботах командир одного из батальонов забыл побриться. Проверявший его подразделения и давший положительную оценку состоянию дел маршал заметил, что командир не побрит. Командир этого подразделения, проявив находчивость, ответил, что он не не побрит, а отпускает бороду. Маршал тут же дал распоряжение своему адъютанту записать фамилию и другие данные этого командира, а последнему через 6 месяцев сфотографироваться и выслать ему фотокарточку…
Чем закончился этот случай находчивости, мне неизвестно.
В первых числах апреля 1942 года нашу «тройку» пригласил к себе комиссар полка и сказал, что в полку имеется разнарядка для направления в Камышловское общевойсковое училище, и предложил нам поступить в него.
Я дал на это согласие и написал рапорт. Оформил соответствующие документы. Николай Левшин меня тепло, по-братски проводил, а при расставании мы оба даже растрогались. Через 2 часа я уже был в Камышлове в училище. Так я стал курсантом Камышыловского пехотного училища. Меня назначили командиром отделения. Наступили напряженные будни курсантской жизни. Мое отделение в числе передовых по роте и батальону.
Помощником командира взвода назначен Паппель, по национальности эстонец, человек с добрым, мягким характером, за что он пользовался уважением у своих подчиненных. С ним у меня сложились добрые отношения.
В отделении, командиром которого мне довелось быть, проходил службу Федя Анхимов. С ним у меня складываются товарищеские отношения, мы друзья. Он мне рассказывает, что служил на крейсере «Киров» Краснознаменного Балтийского флота матросом. Мне же довелось быть воспитанником на линкоре «Парижская Коммуна» Черноморского флота. Это нас еще больше сблизило. Он участвовал в морском переходе с Таллинна в Крондштат летом 1941 года. Участник боев на море. Был ранен. Все, что он рассказывает о пиратстве авиации и флота врага на море, безжалостном истреблении эвакуированных женщин и детей, находившихся на верхних палубах незащищенных и безоружных судов, вызывает гнев и ярость к врагу.
Враг у стен Ленинграда, обстреливает его с артиллерии. Федя тяжело переживает эти события. Еще бы – ведь он ленинградец, там по улице Пушкина, кажется в доме 40, живет его жена Валя, по специальности строитель-маляр. Они переписываются. Одно из писем особенно расстроило. В этом письме Валя ему писала, что она уже не строитель, а защитник города. Клялась в ненависти к врагу, преданности Родине и верности Феде. Письмо она написала своей кровью. Это-то и вызвало у Феди слезы и тяжкие переживания. Почему Валя написала это письмо кровью, видимо, комментировать не следует. Успокаиваю и поддерживаю Федю, как только могу.
Писать о курсантских буднях, видимо, нет необходимости, так как об этом достаточно рассказано в нашей мемуарной литературе. Однако хотелось бы упомянуть, что кроме нескольких экземпляров учебных винтовок, автоматов и ручных пулеметов, в роте на вооружении каждого курсанта находился макет винтовки, то есть грубо выструганная из дерева палка, по форме напоминающая винтовку-трехлинейку. По тактике ведения боя большое внимание было уделено ведению боя в населенном пункте. Последнее по тому времени было новинкой в боевом уставе Красной Армии.
Как всегда, так и в этот день, 1 сентября 1941 года, наш батальон был выстроен к 9 часам для развода на занятия. Командир батальона принял доклады рот о готовности к занятиям. Сделал замечания, дал некоторые указания. Затем командовал: «батальон смирно!.. На занятия по ротно…» в этот момент все увидели бегущего из штаба помощника дежурного по училищу к командиру батальона, который увидев бегущего к нему, остановился на полуслове «…шаг…» и дал команду «отставить». За помощником дежурного к нему подошел замначальника училища, по команде которого батальон возвратился в казарму. Там нам было объявлено об отправке на фронт и дано полтора суток на сдачу имущества и различные расчеты.
Абсолютное большинство этому были рады. Затем батальон погрузили в эшелон, и через двое суток нас выгрузили на каком-то глухом разъезде у с. Теплая Гора Пермской области.
Там нам объяснили, что мы прибыли во вновь комплектуемую 96-ю отдельную стрелковую бригаду, которую формировал полковник Г. Н. Артемьев, его замом по политчасти был подполковник Поликарпов, начальником штаба – полковник В. В. Минеев.
С большинством курсантов своего взвода я попал в отдельный батальон автоматчиков. Его командиром был лейтенант Гловин. Меня назначают и.о. командира взвода. Взвод, как и вся 96-я ОСБР, почти наполовину укомплектован моряками-тихоокеанцами. Абсолютное большинство моряков не имеют никакой общевойсковой подготовки. По решению командования бригады в спешном порядке, по весьма сокращенной программе проходим подготовку за одиночного бойца, отделение, взвод, роту и батальон. Моряки охотно воспринимают и выполняют все команды, за исключением «по-пластунски», всячески увиливают от ее выполнения. А ведь в боевой обстановке «по-пластунски» надо уметь «ходить», ибо от этого во многом зависит успех в достижении цели, сохранить свою жизнь и не быть раненым.
Немало стоило труда убедить и научить их этому искусству.
На занятиях по боевой подготовке и тактике ведения боя особое внимание уделяется ведению боя в населенном пункте, умению успешно владеть штыком, кинжалом и ведению огня из автомата в ближнем и рукопашном бою. Нужно сказать, что по тем временам такое формирование, как батальон автоматчиков, было создано впервые. Это был вновь созданный вид оружия, который придавался общевойсковым частям для усиления. Бойцов-автоматчиков воспитывали в духе беспредельной преданности Родине, умению одиночного ведения боя. Внезапно появляться в тылу врага и там, где он тебя не ждет. Выдержке и выносливости, находчивости и упорству.
Такие требования к нам, автоматчикам, наводили на размышление, что нас готовят к серьезным схваткам и на нас возлагаются большие надежды.
Дней через 20 на должность командира взвода назначен младший лейтенант (фамилии сейчас уже не помню), окончивший краткосрочные курсы командиров взводов и прибывший в батальон. Меня назначают командиром отделения управления этого же батальона. С вновь созданным отделением усиленно работаем над освоением и усвоением всего того, что необходимо в бою. Ребята в отделении подобрались удачно. Отделение сдружилось. Живем в землянках и шалашах. Вместо матрацев и простыней используем ветки хвои, имеем одеяла. Все понимаем, что в любой момент будут поданы вагоны – погрузка и на фронт.
Наконец-то такой день настал, – в самых последних числах сентября. Погрузились. Едем, но на какой фронт, не знаем. Проезжаем станции Пермь, Киров, Горький… От командира батальона «по секрету» узнаю, что едем до ст. Петушки под Москвой, а там наш эшелон переадресуют. Прибываем на эту станцию и с нее едем и проезжаем Орехово-Зуево, Тамбов, Ртищево, Саратов, Энгельс. Теперь стало проясняться, что один из двух фронтов: Сталинградский или Воронежский.
На одной из небольших станций вдруг сделана остановка и дана команда выгрузиться без материальной части. Командир батальона л-т Головин собрал командный состав батальона и сообщил, что на жел. станцию впереди был совершен налет вражеской авиации и разрушено железнодорожное полотно. Там идут восстановительные работы, поэтому нас не принимают. Возможен налет вражеской авиации и на станцию, на которой стоит наш эшелон. Чтобы избежать опасности быть подвергнутым бомбежке и потери людей, решено было провести «маленькую игру» на местности, но дальше 1–2 км от станции не удаляться.