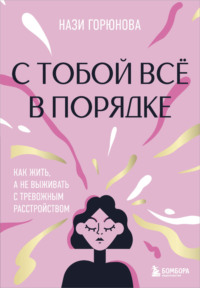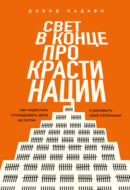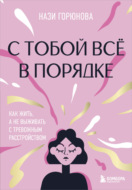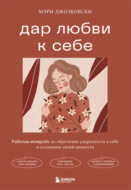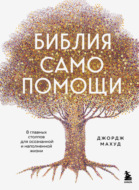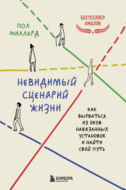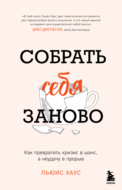Czytaj książkę: «С тобой всё в порядке. Как жить, а не выживать с тревожным расстройством», strona 3
«Меня выбросило из реальности». Дереализация
Первый из «врагов» – дереализация. Я мечтаю, чтобы к концу главы вы с ней примирились, потому что она совсем не враг. Когда реальность перестает быть выносимой, психика «прощается» с ней, отправляя нас в безопасное, на ее взгляд, место. И в миг мы перестаем четко соображать, логично формулировать мысли и быстро реагировать. Окружающий мир выглядит и ощущается вязким, странным. Реальность искажается до такой степени, что звуки притупляются, пространство меняется, а в голове бьется мысль «Я схожу с ума». Эта мысль и без того частый гость тревожных людей, но в момент дереализации она звучит убедительней обычного.
И нет, это не похоже на искажение пространства, как в кино. Окружающий мир сохраняет свои цвета и размеры, мозг продолжает работать, когнитивные навыки не утрачиваются. Все по-прежнему, но очень странно.
С дереализацией знаком буквально каждый. Мы встречаемся с ней на защите диплома, в ЗАГСе, на первом свидании и в первой поездке за границу. В ситуациях, когда реальность настолько переполнена чувствами и эмоциями, что психика начинает защищаться. Да, дереализация – это защита психики. Но она – друг.
Мы, тревожные люди, испытываем невыносимые эмоции – страх, панику и тревожность – в большом объеме и довольно часто, поэтому дереализация «включается» чаще, чем у обычных людей.
Увы, она практически всегда будет сопровождаться мыслью «я схожу с ума», потому что мозг всегда будет стремиться найти объяснение странным ощущениям. И он его «находит» в «сумасшествии».
Предлагаю сейчас обрадоваться тому, что дереализация – странная и страшная защита психики, улыбнуться и выдохнуть с облегчением, что все работает как должно. И пойти дальше. Дереализация – умничка не только потому, что защищает нас, но и потому, что указывает на ошибки! Одно дело, когда мы прощаемся с реальностью при избытке эмоций, на пике страха или в волнительный момент, но совсем другое, когда это случается без очевидной причины.
Мы можем жить так годами без передышки просто потому, что рядом не тот человек, можем «улетать» из реальности перед встречей с подругой, которая вроде милая и нас многое связывает, но такая язва… Дереализация указывает на людей и ситуации, которые нам не нравятся, но с которыми мы не пытаемся разобраться и поэтому продолжаем «есть кактус».
Каждый раз, когда со мной случается дереализация, я спрашиваю себя:
– От чего меня защищает психика?
– Как я себя насилую?
– Что мне не нравится?
– Как это исправить?
– Чего я на самом деле хочу?
Дереализация – громкий, противный будильник, орущий в шесть утра. Его можно отложить, на время заглушить подушкой, но остановится он только после полного вашего пробуждения. После правильных выводов и решения наконец изменить то, что так раздражает и не устраивает. Бороться с дереализацией бесполезно. Чем больше мы стараемся вернуться в реальность, тем сильней психика сопротивляется. Это друг, с друзьями не борются, их принимают такими, какие они есть.
Дальше я расскажу лайфхак в обмен на обещание использовать его лишь в экстренных случаях – например, перед публичным выступлением или если нужно срочно сесть за руль.
В моменте поможет «холодный душ» для сенсорной системы: съесть лимон, опустить лицо в таз с ледяной водой, потрясти руками, потрогать предметы, называя их вслух, растопить в ладошках один кусочек льда, а второй съесть.
И стоит позволить психике нас защищать. Так, как она умеет.
Я прожила с дереализацией в одной квартире полгода. Это был период, когда я уже все знала про тревожное расстройство, умело купировала приступы паники и практически дирижировала симптомами. Но дереализация просто была. Она как заселилась, так и не съехала, пока не закончился «контракт». Чего я только не пробовала: и тот самый «холодный душ» для сенсорной системы, и мантры, и уговоры, и терапию – бестолку. Я нужна была ей, а она мне. А зачем? Я же такая умница, ничего не боюсь, работаю, учусь, с семьей вижусь, в хороших отношениях с мамой и даже подруг новых завела. Для чего она мне?
Три слова: не своя жизнь. Работа не моя, учеба тоже, отношения с близкими – лишь нарядный фасад, за которым кусками с потолка свисает непонимание и неприятие, планы на жизнь вообще не понятно для кого расписаны – я разве этого хочу? Да нет, просто так надо и вроде правильно, и жизнь, кажется, крепко держится на этих полудохлых опорах. Полгода я просыпалась в дереализации. Полгода я встречалась с людьми, не запоминая их лиц и имен, жила будто бы в стороне. Была странной, напуганной и даже немного смирилась с тем, что так будет всегда. Пока полудохлые опоры моей жизни не разрушились. Не отвалился фасад идеальной картинки, не обнажилась правда – не нужно мне все это. Это не моя жизнь. Я хочу другого. Хочу разрушить, разорвать, разломать старое. Дереализация прошла на следующий день после осознания, что пошло оно все к черту. У меня больше нет идеального фасада. А вместе с ним нет и дереализации.
Ксения, 26 лет
У меня панические атаки с шести лет, которые продолжаются до сих пор, но мой главный страх – дереализация. И я для себя нашла хороший вариант борьбы с ней – вождение машины. Я чувствую, что держу все под контролем, да и жить-то хочется – сразу же все внимание концентрируется на дорожной ситуации. Минут 10–15 и все проходит. А помимо прочего, я начала заниматься автоспортом. Именно это мне помогает и сбрасывать адреналин, и контролировать все, и чувствовать себя «здесь и сейчас».
* Ни в коем случае не призываю садиться за руль во время приступа. У тех, кто водит каждый день, мышечная память – тело само знает, что делать. А мозг боится аварии, поэтому и мобилизуется.
Мари, 32 года
Я знаю, что дереализация – защитный механизм психики. Я перестала зацикливаться, убрала фокус внимания, и она сама сходит на нет. А паническим атакам я разрешаю просто быть, будто говорю: «Давай еще, это все, на что ты способна?» Там прям сильный адреналин идет, как на американских горках, когда ты спускаешься. Аж дух захватывает, но после наступает тишина – мысли успокаиваются, и тебе спокойно! Разреши себе проживать.
«Я не узнаю свое отражение в зеркале». Деперсонализация
Когда при дереализации нас выбрасывает из «страшной» реальности, то у нас хотя бы остается ощущение себя. Хоть какая-то опора все еще при нас – «я есть, я существую, пусть и в странном мире, но моя личность неизменна, я все еще могу на себя опереться», а вот деперсонализация отбирает и это. Мы перестаем себя узнавать. Понятное дело, что мы прекрасно помним и себя, и свой возраст, и вообще все помним, но что-то меняется, будто пропадает маленькая деталь пазла, и наши голоса начинают звучать в непривычной манере, тело ощущается чужим, улыбка незнакомой, а волосы – странными, и может казаться что я больше не я.
Деперсонализация – это ощущение утраты собственного «Я», потеря связи с реальностью.
Происходящие вокруг нас события кажутся ненастоящими, мы будто наблюдаем за своей жизнью со стороны; возникает чувство неподконтрольности своих действий и речи, искажается восприятие частей тела, появляются сомнения в реальности воспоминаний, а в голове пульсирует стандартная мысль: «Я схожу с ума». И снова повторюсь: никто не сходит с ума, психика защищается. Что уже говорит о том, что все работает нормально. Психика пытается справиться с происходящим вокруг нас. Таким вот страшным способом. Деперсонализация при тревожном расстройстве или просто при повышенной тревожности – реакция на стресс и постоянный страх.
Каждый день мы сталкиваемся с чувством страха, тревоги, апатии, с ощущением невыносимости, каждый раз засыпая в ночи, думаем, что завтра все закончится, но оно никак не заканчивается. И каждый раз мы просыпаемся в надежде, что сегодня будет лучше, но, по правде говоря, становится еще хуже. На личность тревожного человека сваливается большой объем невыносимых чувств, и, чтобы спастись, психика «отключает» небольшой кусок, чтобы хоть малая часть нас не испытывала этот ужас. Включается защитный механизм, который будто говорит нам: «Все хорошо, все это происходит не с тобой, это не ты, это кто-то другой страдает».
Все нефизиологические симптомы тревожности отвратительны, потому что они вынуждают сомневаться в собственной адекватности, будто делая самый страшный страх явью. И никак с этим не справиться, правда. Ну невозможно взять и отключить защиту психики – и невозможно, и не стоит. Деперсонализация пройдет, как только мы перестанем нуждаться в защите, как только тревожность спадет. Худшее, что можно сделать при деперсонализации и дереализации, – начать сопротивляться, бороться с ними, пытаться изо всех сил сфокусироваться на мире, пытаться «сорвать» эту защиту. Во-первых, это совершенно бесполезно, во-вторых, любое сопротивление лишь усилит механизм защиты. Все нефизиологические симптомы тревожности – лишь ощущения: потери опоры под ногами, того, что едет крыша, головокружения, потери памяти. Это ощущения, это не по-настоящему. По-настоящему то, что мы не потеряем над собой контроль, не сойдем с ума и не упадем.
«Кажется, я схожу с ума». Диссоциация
Испытывать дереализацию или деперсонализацию – это как ходить по грани сумасшествия. Ты вроде в себе, а вроде и нет. Кажется, что отдаешь отчет своим действиям, словам, поступкам, но действуешь словно на автомате и мало что помнишь. Такое незаметное для общества помутнение рассудка. Незаметное для других, но ужас какое заметное для тебя. И вот ты живешь, испытывая этот букет кошмаров днями, неделями, месяцами или с некой периодичностью, привыкаешь, адаптируешься, сопротивляешься, а потом – бах, и стало хуже. Все осталось таким же странным, непонятным, пугающим, интенсивным, сводящим с ума, но будто усилилось во сто крат. В миллион раз усилилось. Все знакомо до жути, но чуть иначе. Чуть более сумасшедше.
И снова – сознание на месте, когнитивные навыки тоже, но что-то сильно не так. О, я знаю, насколько сложно это описать словами, но попробую. Чувства, мысли, действия, ощущение тела в пространстве – они больше не согласованы. Будто бы работают не сообща. Словно слаженная система дала сбой, и то, что казалось постоянным, понятным и каким-то базовым, начало расщепляться.
Если очень просто: диссоциация – это дереализация и деперсонализация, помноженные на сто. Сто тысяч миллионов. Диссоциация приходит в жизнь вместе с выгоранием, нервным срывом и какой-то уж совсем невыносимой эмоцией. И абсолютно неважно насколько масштабным было событие, ставшее триггером. Важно, что в масштабе личности оно достаточно велико.
Нет никакого решения. Не купируется диссоциация лимоном, льдом или крепким сном. Ее можно только переждать и вытерпеть.
Она пройдет, когда психика адаптируется, когда накал эмоций спадет, когда боль обрастет мозолью. Она пройдет, когда ситуация станет рутинной.
Когда то страшное, что повлекло за собой возникновение диссоциации, будет проговорено сто тысяч раз, а случившееся – прожевано и прожито.
В среднем здоровой психике необходимо две недели на адаптацию. Будь то адаптация к новому месту, новым реалиям или известиям, к состоянию. Мы правда знаем, что нужно делать эти две недели. В моменте, конечно, нет, но составить примерный план действий на случай будущего ЧП стоит, потому что как только случится диссоциация, рациональное мышление отключится, оставив нам только слезы, апатию, расщепление и лежание на кровати до пролежней.
Я сталкивалась с этим множество раз, но каждый из них был как первый. Каждый выглядел как конец. К диссоциации меня вели разные события – однажды это было выгорание от работы с тревожными людьми, когда я напрочь отказалась слушать себя и работала сутками напролет, потому что им я была нужней, чем себе.
Мне 34. Я в стойкой многолетней ремиссии, меня больше не беспокоят панические атаки, потому что я их просто не боюсь и филигранно купирую за пару минут в случае чего; пропала фоновая тревожность, часть фобий осталась в прошлом, часть претерпела значительные изменения в лучшую сторону. Мне 34, я выросла над своей тревожностью, начала относиться к ней по-дружески, и вот мы в паре живем уже несколько спокойных лет, дополняя друг друга. Она подсказывает, когда мне пора отдохнуть, когда стоит сказать «нет», стереть натянутую улыбку с лица, сходить к врачу или просто устроить себе день-тюлень. Я же с благодарностью отношусь к ее сигналам, принимаю ее как часть себя, не пытаюсь прогнать ее из своей жизни. Мой тревожно-мнительный психотип со мной навсегда, но тревожное расстройство больше нет, хотя это все еще не значит, что я не могу сталкиваться с его симптомами. Я живу эту жизнь впервые, и не могу быть готова ко всему (да и не должна), хотя и кажется «ну, хуже уже не будет». Будет. Было.
Мне 34. Второй год живу на острове Маврикий со своим мужем Максом. Мы переехали сюда на неопределенное время, но уже успели завести прочные отношения с островом и людьми, живущими тут. Пока я как истинный невротик с отсутствующим чувством безопасности работаю каждый день под кондиционером, изредка окунаясь в бассейн, Макс плавает в лазурном океане, ходит в горы, живет, наслаждается каждым днем и заводит друзей. По соседству с нами живет чудесная пара белорусов – Таня и Сережа с дочкой Кристиной. У них все так же: невротик Таня любит работать, нейротипичный Сережа – жить.
Мне 34. Я живу на острове Маврикий со своим мужем Максом в доме с бассейном. На часах 19 с копейками, и мы ужинаем, смотря сериал. Сегодня у нас день-тюлень, потому что за окном весь день льет тропический ливень, и мой любимый бассейн вышел из берегов. Доев, Макс встает из-за стола и берет печенье. Мы купили его сегодня. Оно рассыпчатое, ванильное, французское. Он кладет печенье в рот и через секунду начинает кашлять. «Господи, Макс, не торопись, я не отберу», – говорю я. Обычно он откашливается очень быстро, лишь бы я не стучала его по спине со всей дури, но не сегодня. Сегодня он продолжает кашлять. Я напрягаюсь, но не поворачиваюсь на него. Жду, что сейчас все прекратится, потому что боюсь, что мой страх станет явью. Макс встает. Я вижу это боковым зрением. Он встает и, продолжая кашлять, показывает мне на свою спину, что означает «постучи». Самый жуткий страх стал явью. Мой самый близкий человек на свете подавился, и сейчас задыхается. Я слышу этот хрип. Вскакивая, я говорю: «Успокойся, я сейчас тебе помогу, главное не суетись и не паникуй». Я демонстрирую спокойствие и нарочитое равнодушие, глупо надеясь, что это должно его успокоить.
Внутри меня все клокочет, внутри меня все орет.
Мои очень длинные руки обхватывают его грудь для приема Геймлиха и не смыкаются. Черт! Они не смыкаются! Но я не смогу помочь Максу, не обхватив его! Я говорю ему: «Бросайся грудью на спинку дивана», она высокая и жесткая и под его весом должна помочь диафрагме сократиться, чтобы вытолкнуть чертово печенье. Макс хрипит, но выполняет мои указания. Время превращается в мед. Оно липко тянется, а мы, застрявшие в нем, не прекращаем попытки спастись. Никакой панической атаки, никакой тревожности, ни единого намека на растерянность и панику у меня нет – мой мозг работает на пределе своих возможностей, перебирая варианты. Я четко понимаю, что, если сейчас он потеряет сознание, я не погружу его в машину, не довезу до больницы – не спасу. Напуганная маленькая часть меня уже забилась в угол подсознания, планируя дальнейшую жизнь без него и оплакивая потерю, взрослая и рациональная часть за долю секунды сообразила, что руки Сережи, живущего в соседнем доме, смогут обхватить грудную клетку Макса и выполнить прием Геймлиха.
Одной рукой я стучу по спине задыхающегося Макса, другой ищу контакт. «Таня, пусть Сережа подойдет сейчас к нам как можно скорей, Максим подавился, нужна помощь», – говорю я. И Макс и Таня впоследствии расскажут свою версию, в которой я истерично ору в телефон: «Таня! Сережа! Сюда! Быстрей! Максим умирает!»
Сережа успел.
Мы все прожили миллион разных эмоций и сценариев за четыре минуты. Даже маленькая дочь Сережи и Тани, услышав мой крик в телефоне потом долго приходила в себя. В тот вечер мы все сделали выводы, стали ценить жизнь и своих близких еще сильней, Макс зарекся есть рассыпчатое печенье, а я «улетела» в диссоциацию на две недели.
Две недели я не существовала как единое целое, меня разорвало в клочья, отделив чувства, мысли и ощущение себя в пространстве.
Какая-то часть меня попрощалась с Максом, какая-то часть меня должна была это пережить. И она переживала. Я говорила о произошедшем всем, кого встречала, по кусочкам отдавая свое переживание другим людям.
Назвать диссоциацию другом у меня пока не поворачивается язык, уж очень она неприятная особа, но что ж – вот так защищается психика. И спасибо ей за это. Мой план поддержки себя на случай очередного ЧП довольно прост, но для меня крайне эффективен. Я окружаю себя рутиной. Даже если нет сил, я заставляю себя пылесосить, потому что это моя ежедневная рутина, заставляю себя через силу есть привычную еду, потому что это моя рутина. Спасение в ней. Для мозга все, что рутинно, безопасно. Даже захлебываясь слезами бессилия, я должна показать мозгу, что занимаюсь знакомым и привычным, а значит, все в порядке. Сюда же можно отнести просмотр одного и того же сериала, у меня это «Сваты». Рутина – безопасность, знакомое – безопасное. Из непривычного в такие периоды я выбираю полный отказ от социальных сетей и социальных контактов (за исключением близкого круга), отказ от алкоголя, сигарет, мятный чай литрами, чревоугодие и массаж. И главное – я точно знаю, что это пройдет. Психика не потребует лишнего времени на адаптацию, она возьмет столько, сколько ей нужно.
Darmowy fragment się skończył.