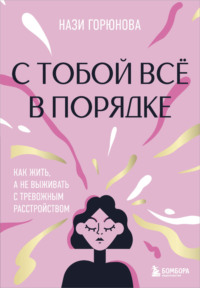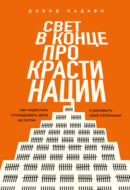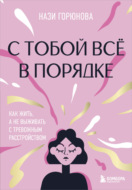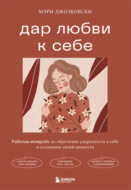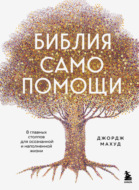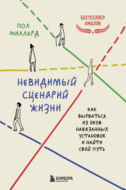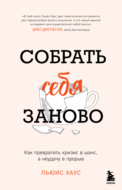Czytaj książkę: «С тобой всё в порядке. Как жить, а не выживать с тревожным расстройством», strona 2
Эволюция. «Бей, беги или замри»
«Бей, беги или замри, – говорит эволюция. – Так ты выживешь». Это базисный эволюционный принцип защиты, ровесник человечества, согласно которому живое существо в момент опасности на подсознательном уровне быстро решает, что ему предпринять – бороться, убежать или впасть в ступор.
У наших далеких предков реакции были буквальны: «беги» вынуждала убежать от угрозы. Это решение принималось за 13 миллисекунд и гарантировало выживание. Человек справлялся с опасностью, удирая от нее. Сердце стучало на пределе возможностей, отправляя кровь к ногам для быстрого бега, бронхи расширялись, легкие наполнялись кислородом, чтобы его хватило на дальнюю дистанцию, а адреналина, стимулирующего это действие, было столько, что хоть отливай. До того как успевала подключиться рациональная оценка ситуации, человек уже удирал. Он делал это неосознанно, инстинктивно, не задаваясь вопросом «А так ли нужно сейчас бежать?». Амигдала велит, значит надо.
Реакция «бей» включалась в момент, когда в побеге не было смысла – возможно, противником был гепард или кто-то длинноногий, кто легко догонит. Префронтальная кора даже не успевала включиться, как кровь уже мгновенно направлялась к рукам и ногам, наполняя их недюжинной силой, чтобы повысить шансы в битве. Мышцы напрягались и каменели, пальцы сжимались в кулаки, зрение расфокусировалось, оставляя в зоне видимости одного только противника, а адреналин стучал в висках.
В отличие от остальных реакций, «замри» пахла отчаянием, ведь миндалевидное тело за долю секунды предрекло практически фатальный исход – противник был быстрей и сильней, ни бежать, ни драться смысла нет. Оставалось лишь замереть в надежде, что он побрезгует или уйдет, поняв, что ничто ему не угрожает, ведь в организме противника протекали ровно такие же процессы. Так, три базовые эволюционные реакции сберегли наших прародителей, чтобы те спокойно размножались и в результате дали жизнь нам.
Эти реакции сохранились и в современном мире, но претерпели адаптивные изменения: теперь «бей» не всегда побуждает нас к драке, часто она ограничивается лишь слабым выражением агрессии. Мы так же, как наши предки, порой хотим сжать кулаки и надавать всем по мордам, но амигдала, оценивая риски, не позволяет нам этого сделать – ведь тогда велик шанс быть исключенным из социума, а это почти так же опасно, как получить по мордам в ответ. В современном мире реакция «бей» как бы направляется внутрь нас. Выражения злости, агрессии, а также драки или истошного крика не случается, но импульс не исчезает, он находит другой выход. Так, мы часто сталкиваемся с аутоагрессией и можем неосознанно наказывать себя за то, что не ответили грубияну, не отстояли себя, позволили нарушить свои границы. Даже это банальное прокручивание в голове мысли «Надо было ответить! Надо было наорать!» всю ночь напролет – некий акт аутоагрессии, как и заедание эмоций.
«Беги» в современных реалиях вынуждает избегать проблем вместо того, чтобы их решать, и делать вид, что их не существует. Благодаря этой реакции мы больше не сунемся в метро, где настиг приступ паники, сбежим из торгового центра, промолчим и тихонечно уйдем из кабинета начальника. Реакция «замри» отключает все чувства и эмоции, прячет и подавляет их и часто «выбрасывает» нас из реальности. Прекрасные механизмы защиты, так здорово работающие на протяжении тысяч лет, продолжают справляться в моменте, но вредят нам в долгосрочной перспективе. Мы ведь адаптировали их под современный мир, под новую жизнь, мы молодцы, получается. Но, по правде говоря, нам стоило бы иногда поддаться той эволюционной чистой реакции «бей» и как следует наорать на идиотов вместо того, чтобы отправить эту невыраженную злость внутрь себя, тем самым себя разрушая. Нам следовало бы бежать не из метро, а из жизни неподходящих нам людей, бежать от работы, на которой нас унижают, бежать из города, который стал тесным. И «замирать» нам стоило бы иначе. Не отрицать своих эмоций, делая вид, что все окей, а просто отключать телефон, выключать телевизор и замирать по-настоящему, восстанавливаясь после длительного стресса. Нам следовало бы поступать так. Но пока подключится рациональное мышление, амигдала уже все решит за нас.
Один и тот же человек в разных ситуациях может неосознанно выбирать одну из трех эволюционных реакций на потенциальную опасность, но чаще всего в его жизни преобладает одна из них. И самая распространенная – «беги». Мы всегда бежим, когда нам очень страшно. От страха, от темноты, от дискомфорта и неизвестного, от опасного. Бежим за помощью и защитой к своим партнерам, мамам и врачам.
К врачам, которые говорят: «У вас ВСД, с вас пять тысяч».
Вегетососудистая дистония – диагноз, которого нет
В каждой стране постсоветского пространства, в каждом городе в карете скорой помощи ездит она – милая, уставшая женщина-врач с доброй улыбкой и мягким заботливым голосом, раздающая тревожным людям диагноз «вегетососудистая дистония».
Она приезжала и ко мне. Спокойная и уверенная она вошла в ресторан, в котором я «умирала» и сразу все поняла. Поняла, что ее вызвали зря, потому что эта самая дистония – несмертельное заболевание (и не заболевание вовсе). Поняла, что оно не лечится, поняла, что без диагноза я не успокоюсь. И произнесла это эффектно звучащее «вегетососудистая дистония». Не скажи она тогда эти два слова, возможно я бы по сей день лечилась от воображаемых болезней. Услышав это самое «ВСД», я сразу поняла в каком направлении мне копать.
У этого «несуществующего диагноза» довольно интересная история, напоминающая расследование, которое зашло в тупик. В конце девятнадцатого века солдаты гражданской войны поголовно жаловались на одинаковые симптомы: у них периодически жгло в груди, кружилась голова, внезапно начинались одышка, расстройство желудка и появлялось чувство тревоги. Тогда причиной происходящего было выбрано истощение сердца вследствие скудного питания, напряжения и недосыпа. Так появилось первое название этого «диагноза» – синдром солдатского сердца. В середине двадцатого века с этим столкнулись и советские солдаты, но что парадоксально – серьезных заболеваний ни у кого не было. Зато симптомы еще как были. Прямо как у нас. Тогда академик Савицкий пришел к выводу, что происходящее – сбой вегетативной системы. И он оказался прав. Это действительно сбой вегетатики, но все намного сложнее.
Вегетососудистая дистония не диагноз, и никогда им не была. Это лишь набор симптомов, указывающих на наличие какой-то проблемы.
Наша вегетативная система является частью нервной системы, отвечающей за функционирование внутренних органов (сердцебиение, слюно- и потоотделение, пищеварение). Но несмотря на эту связь, вегетативная система абсолютно автономна и не контролируется сознанием. Говоря о нарушении ее работы, я подразумеваю чрезмерные реакции, несопоставимые с масштабом угрозы. Иными словами, это процессы, запускаемые амигдалой, и следующие за ними реакции тела: тремор конечностей, тошнота, головокружение, тахикардия, жар в груди, ватные ноги, скачки давления, удушье. То есть, когда вегетатика «включается» в ответ на реальную угрозу – вопросов нет, все логично: да, нас потряхивает или даже тошнит, но это здоровая реакция на происходящее. Когда же вегетатика отвечает на воображаемую или недостаточно весомую опасность, мы говорим о «сбое». Так под «вегетососудистую дистонию» дружно попадают тревожные люди, люди с эмоциональным выгоранием, невротики, астеники, и те, кто просто очень устал. Это не диагноз, но это намек. «Вегетососудистую дистонию» раздают направо и налево, хотя она лишь следствие реальной осязаемой проблемы, лишь набор симптомов. Она может быть как сигналом заболевания, которое лечится медикаментозно, так и первым шагом в тревожное расстройство.
Нам всем знаком этот термин, поэтому я считаю важным кое-что прояснить. Получая «реальный» диагноз, мы вроде как немного успокаиваемся в надежде на скорое исцеление, но со временем оказывается, что «лечение» ни черта не работает. По запросу «лечение вегетососудистой дистонии» в интернете найдется миллион статей о том, как важно спать по восемь часов, заниматься физкультурой, пить чай с мятой, закаляться и боже упаси «не нервничать». И вот мы вроде как пьем этот чай, спать себя заставляем, физкультуримся сквозь тахикардию, гуляем на свежем воздухе, думая о том, где ближайшая больница, а лучше не становится. И не станет. Потому что не должны трястись руки у здорового человека! Ну не должна кружиться голова каждый раз за порогом дома! Ну не может сердце биться черте как с перебоями, когда мы просто лежим на боку! И «не нервничать» тут никак не выйдет. Пока мы там, где мы есть, не получится. Пока мы не изменим свою жизнь.
Надеюсь, эта фраза не прозвучала пугающе, потому что ничего такого страшного не происходит – лишь чрезмерные реакции вегетативной системы вследствие длительного, порой даже незаметного стресса, которые до жути пугают тревожного человека, стимулируя усиление самих себя. Вот и выходит замкнутый круг: вегетатика «сбоит» из-за стресса, ее проявления этот стресс усиливают, она «сбоит» еще сильней и так по кругу. Чтобы разорвать его, я предлагаю начать наш путь с досконального изучения симптомов. Мы узнаем, что значит каждый из них, почему он возникает, поймем, почему он безопасен, сможем доставить в чертоги разума то, что эти ужасные симптомы не навредят нам и научимся с ними справляться.
К черту дистонию. Аминь.
Нефизиологические симптомы тревожности
«Соберись», «возьми себя в руки», «с тобой все нормально», «ты не умираешь» – так мы, взрослые, обычно успокаиваем напуганных пятилеток внутри нас. Именно так мы им врем. «Собраться» не поможет – дети не умеют брать себя в руки и терпеть, и у них практически нулевая толерантность к дискомфорту. И да, с ними, как и с нами, ничего не «нормально», и они это чувствуют.
Помимо очевидного сбоя вегетативной системы в момент приступа паники, тревожности, страха или сильного стресса, «сбой» происходит в наших мыслях. Мы буквально перестаем мыслить, как мы. На короткий, но очень страшный промежуток времени мы перестаем быть собой, перестаем узнавать себя, свой образ мышления, порой свои тела и лица. Мы будто теряем то, что делает нас нами, задаваясь справедливым вопросом «Я что, схожу с ума?», а все вокруг будто бы отвечает: «Да». Все вокруг указывает на то, что себе, миру и своим реакциям нельзя верить. Больше ничего не по-настоящему, ничто не опора, больше нет постоянства.
Нефизиологические симптомы тревожности – жуткая история, на самом деле. Если тряску рук, жар в груди и высокий пульс мы можем неверно растолковать как проблемы с сердцем, что в целом тоже пугающе, но хотя бы ясно, к какому врачу бежать и как это лечить, то в случае с ощущением «съехавшей крыши», таких мысленных инструкций не предусмотрено. Кроме как паниковать, пугаться и мысленно ложиться в дурку, ничего не остается. Нефизиологические симптомы тревожности едва уловимы, они как флиртующие незнакомки, подающие противоположные сигналы. Вроде как крыша и едет, а вроде как и нет.
Мне 19. Тревожное расстройство пока только зреет и еще не дает о себе знать, но психотип сформировался, я уже тревожно-мнительный, осторожный, предусмотрительный человек, которого вызвали отвечать на экзамене. Впоследствии мне придется уйти в академический отпуск, потому как дышащий на ладан профессор философии наотрез откажется принимать мое видение его предмета. На тот момент я уже хорошо знакома со всеми симптомами своего волнения и, садясь напротив него, жду, что у меня задрожат руки и голос, но этого не происходит. Мне тревожно, ужасно тревожно, даже страшно, я на грани паники, но сердце бешено не бьется, ноги не подкашиваются, я даже не потею. Но что-то все же происходит. Что-то странно-страшное происходит. Мир едет, я еду, сознание покидает меня, но в обморок я не падаю. Мир такой странный, я странная, предметы тоже, профессор еще странней, чем обычно… Что-то творится. На секунду мир будто выходит из пазов и встает на место, я перестаю узнавать свои руки и голос. Я больше не я. Мои однокурсники, свидетели происходящего, скажут, что выступала я здорово и уверенно, но я никогда не вспомню что я там навыступала. Вот так впервые на моей памяти проявятся нефизиологические симптомы тревоги, те самые, которые невозможно кому-то описать, не боясь уехать в больничку. Которые невозможно объяснить самой себе, пугающие, отключающие сознание.
Почти все симптомы тревожности рано или поздно заглядывают к нам в гости. Они будто прощупывают почву. Стоит особенно сильно испугаться одного из них – он останется надолго.
Поэтому я хочу как можно больше рассказать о каждом из них. Врага нужно знать в лицо. И не нужно бояться. Потому что (спойлер) крыша не едет.