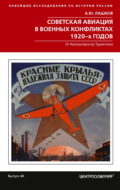Czytaj książkę: «Победитель турок. Князь Василий Бебутов. 1791– 1858 гг.», strona 3
Вступая в новую жизнь
Юный князь Василий закончил училище в 1807 г. в 16 лет. Перед ним и его родителями стоял выбор, куда ему лучше определяться в жизни: идти по военной или гражданской линии. Отец последовал совету князя Цицианова, который настаивал, чтобы Василий шел на военную службу. Тем более что князь Цицианов имел предварительную договоренность в Петербурге об определении Василия в привилегированный 1-й Кадетский корпус, в котором воспитанники содержались за казенный счет. Хотя к этому времени П.Д. Цицианова и не было в живых, но князь Иосиф, помня настойчивое желание князя, решил последовать его совету. Это для И. Бебутова было очень важно. В корпусе сын мог учиться за счет государства, на казенный кошт. Хотя семья Бебутовых и была княжеского рода, но средств особых она не имела и жила небогато.
Поэтому после окончания училища в 1807 г. юный князь Василий Бебутов был отправлен в столицу для продолжения учебы в кадетском корпусе, и родители не несли больших затрат. При этом имелось в виду, что после окончания этого учебного заведения перед Василием открывались хорошие перспективы для карьерного роста.
Отправляя Василия в корпус и напутствуя сына, князь Иосиф наказывал ему, чтобы он учился и вел себя хорошо, не подводил родных, а также покойного князя Цицианова и оправдал их надежды.
Когда князь И. Бебутов принял решение об учебе Василия в Петербурге, то подвергся упрекам со стороны родственников, соотечественников за пожертвование сыном, отправляя его в такую даль. Для всех было в удивление, что он отправляет мальчишку в далекий и неизвестный Петербург. Такого еще в Закавказье не было, чтобы ребенок из местных народов поступал учиться в столичный кадетский корпус. Вначале он пытался объяснить окружающим важность этого решения. Но, видя, что все это бесполезно, князь Иосиф перестал что-либо говорить на этот счет и только посмеивался над упреками, как бы говоря: ничего, посмотрим, что вы скажете, когда Василий закончит учебу в корпусе и возвратится в Тифлис.
Юного князя Василия в столицу провожали всем многочисленным кланом Бебутовых. Ему высказали массу пожеланий, наказов хорошо себя вести, не позорить род Бебутовых и не забывать о родных местах, почаще писать домой письма, сообщая об учебе и жизни в столице. Отец дал ему главный наказ: хорошо учиться и вести себя достойно, как это подобает представителям рода князей Бебутовых.
Василий Бебутов с грустью покидал родной город и очень волновался перед дальней дорогой. Родители и родственники хорошо снабдили его всем необходимым, чтобы он ни в чем не нуждался в дороге, а главное – благословением на хорошее дело. С Василием был отправлен сопровождающий. В штабе Отдельного Грузинского корпуса отец выхлопотал ему подорожную, которая являлась для сына своеобразной охранной грамотой, гарантируя Василию поездку до столицы.
До города Ставрополя ехали под охраной казаков, так как на этом пути часто бывали нападения горцев на проезжавших. Поэтому из едущих на север или юг собирали большие партии и придавали им охрану. Когда проехали Кавказскую губернию и въехали в область Войска Донского, то продолжали путь без всякой охраны, такой привычной на Кавказе.
Проезжая по бескрайним просторам России, Василий поражался тому, какая это огромная страна, сколько здесь ровного места, где не было гор, как в его родной Грузии. В какую сторону ни глянешь, видно далеко до самого горизонта. Чем дальше ехали на север, тем больше было лесов.
И все его существо наполнялось гордостью за то, что маленькая Грузия была вместе с таким мощным государством, которое взяло ее под свою защиту. Он очень хотел, чтобы родина предков Армения была вместе с Россией.
В дороге молодой Бебутов постоянно ощущал радушие и приветливость русских людей. В то же время он видел, что в России было много бедных жителей. Он никак не мог понять, почему в такой большой, богатой стране столько бедных.
Проехав через всю Россию, увидев ее необъятные просторы, познакомившись с простыми русскими людьми, побывав в Москве, как ему говорили, сердце государства Российского, он не сомневался, что Россия обязательно поможет освободить и родину его предков Армению от засилья персов и турок.
Наконец он прибыл в российскую столицу, расположенную на берегах реки Невы и Балтийского моря. Его поразил город Петербург, который стоял на абсолютно ровном месте. Он поразил его также своими размерами, прямыми, далеко просматриваемыми улицами, обилием воды в реке Неве и каналах, наличием красивых зданий.
Город был ухоженным, особенно в центральной его части, и коренным образом отличался от Тифлиса, расположенного на гористой местности, с кривыми, узкими и грязными улицами. Василий часто смотрел на Неву и не мог понять, в какую сторону течет вода. Это было совсем не то, что в горных реках, в той же Куре, где четко было видно, куда стремительно неслась вода.
Огромное впечатление на него произвел сам Кадетский корпус, где ему предстояло учиться. Большое, красивое здание, с великолепной отделкой. Как он потом узнал, в прошлом дворец принадлежал всесильному князю А.Д. Меншикову, сподвижнику Петра Великого. Уже всем своим видом он создавал желание хорошо учиться.
Поскольку корпус был элитарным учебным заведением, которое предназначалось для подготовки офицерских кадров из состоятельных семей, то его воспитанники находились в хороших условиях, на полном государственном обеспечении, получали по тем временам хорошее, всестороннее образование, как военное, так и светское. Конечно, это во многом зависело от человека, его желаний и устремлений. Василий как раз был из тех, кто хотел эти знания и умения получить. Примером для него оставался генерал Цицианов. Выпускников корпуса готовили к практической жизни и руководящей деятельности на военной и государственной службе.
Помимо военного дела в корпусе также изучали иностранные языки, историю, литературу, географию и другие предметы. Непременным также было освоение правил этикета. Все это позволило князю Василию хорошо усвоить правила хорошего тона, стать всесторонне образованным и культурным человеком не только внешне, но и внутренне. Здесь он научился утонченным манерам, умел просто, но с достоинством держаться в обществе, поддерживать разговор с собеседниками. Позже это выгодно отличало его от окружающих и выделяло из общей массы военных и гражданских чиновников, снискав ему всеобщую признательность и уважение. В нем гармонично сочетались образованность, культура поведения со скромностью и уважительным отношением к людям.
Кадетов готовили, прежде всего, к военной службе в российской армии, давая довольно солидную по тем временам теоретическую основу для дальнейшего применения знаний в практической деятельности. Теоретические занятия подкреплялись практикой во время пребывания в летних военных лагерях. Для обучения воспитанников наукам, военной стратегии и тактике были привлечены лучшие силы преподавателей столицы. В корпусе была хорошая библиотека, в которой, кроме специальной литературы, имелись книги многих писателей не только России, но и зарубежных авторов, значительная часть из них на иностранных языках, и прежде всего на французском, который в те времена в России был в особом почете, являясь языком общения между дворянами.
Юный Бебутов, особенно в первое время, очень скучал по дому, по горам, по родному говору, по родителям, друзьям, оставшимся в Тифлисе. Он часто писал домой и всегда с нетерпением ждал ответных писем, которые в те времена шли очень долго. О событиях на Кавказе он узнавал из столичных газет, а также из рассказов приезжавших оттуда офицеров. Иногда князю Василию помимо писем оказией привозили домашние гостинцы, которыми он угощал своих товарищей.
Будучи человеком общительным, он не замкнулся в себе, а быстро сошелся со своими однокашниками, большинство из которых были из весьма состоятельных и знатных семей России. Но и Василий был князем, поэтому, несмотря на его юный возраст, к нему все, даже преподаватели, обращались с титулованием «ваше сиятельство», что лишний раз подчеркивало его высокое сословное положение в обществе.
Василий был человеком коммуникабельным, активным участником всех кадетских компаний и мероприятий, различных мальчишеских проделок. Этому во многом помогло довольно хорошее знание русского языка. Не менее важным было и то, что, живя в прифронтовой полосе, в обстановке постоянной опасности, он еще в Тифлисе довольно основательно занимался военным делом: хорошо владел холодным оружием, фехтовал, метко стрелял, что всегда и везде очень высоко ценилось у военных, особенно у подростков. Этому его научил отец. Он и в корпусе очень много занимался фехтованием, стрельбой. Не в пример многим учащимся Василий много занимался, читал. Он знал, что впереди ему в жизни придется пробиваться самостоятельно. У отца никакого состояния не было, и жить ему придется на жалованье, а оно, как известно, зависело от того, какое положение будешь занимать в служебной иерархии.
Количество кадетов в корпусе в это время достигало почти тысячи человек, хотя по штату 1797 г. их должно было быть 600 человек. Но в связи с войнами, которые вела Россия, количество кадетов постоянно увеличивалось. Армии нужны были грамотные офицеры. Поэтому прием в корпус постоянно увеличивался. Переполненность корпуса создавала массу неудобств. К тому же, хотя численность корпуса значительно возросла, финансирование практически осталось на том же уровне. Поэтому приходилось экономить на всем, и в первую очередь на закупке литературы. Положение кадетов ухудшалось, но начальство на это не обращало внимания. Для него главной задачей оставалась подготовка будущих офицеров.
Директором корпуса в это время был генерал Клингер, который возглавлял корпус почти два десятка лет с 1801 по 1820 г. Несмотря на создавшиеся трудности, он крепко держал управление корпусом в своих руках и ниже определенного уровня ему падать не позволял. Он всегда лично присутствовал на экзаменах, где не просто отбывал время, а деятельно интересовался познаниями кадетов.
Поскольку директор, несмотря на длительное пребывание в России, практически не знал русского языка, поэтому и не мог контролировать русских преподавателей, то он нашел простой выход: стал нанимать как можно больше иностранцев и поручать им вести свои предметы по-немецки и по-французски, то есть на тех языках, которые знал. Метод этот если и не приводил к существенному улучшению преподавания предметов, то, по крайней мере, способствовал укреплению знаний иностранных языков, каковые среди кадетов клингеровского времени оставались по-прежнему совершенными. При всем том специфические предметы вроде тактики, устройства иностранных армий или маневра были упразднены. Расширенные и методически проработанные программы его предшественника Ламсдорфа были сданы в архив, а составление при корпусе собственных учебников остановлено.
В это время широкая образованность для офицера за благо не признавалась, хотя Россия и вела постоянно войны. Это был уже взгляд не одного Клингера, он был исполнителем, а самого императора Александра I, и, следовательно, господствующий в армии и обществе. Офицер должен был свободно говорить по-французски и желательно по-немецки. Официальная переписка в то время велась большей частью по-французски, и при хорошем владении этим языком офицер мог обойтись даже без знания родной речи. Как ни парадоксально это звучит, но в первой половине XIX в. офицер, с трудом пишущий по-русски, а то и вовсе не знающий русской грамоты, не вызывал удивления и вполне полноценно существовал в современной ему среде. В условиях европеизации России русский язык все больше становился языком «черни».
Владение иностранными языками, некоторые начальные знания, безупречная строевая выправка и органически впитанное подчинение дисциплине – вот что требовалось от идеального офицера. И в подаче именно такого образования Клингер видел главную свою задачу.
Для Клингера главным было: дисциплина любой ценой. В корпусе хорошо знали любимую фразу директора: «Долг солдата – стоять прямо, не рассуждать и поворачиваться по команде… Русских надо менее учить, а больше бить». Поэтому в корпусе процветали телесные наказания по любому поводу. Кадетов нередко наказывали до такого состояния, что они оказывались в госпитале на излечении. Князь Василий, помня наказы отца и будучи человеком дисциплинированным, учился хорошо, приказы выполнял точно, поэтому он не испытывал особенных затруднений и не подвергался телесным наказаниям.
Василий Бебутов от многих кадетов отличался тем, что много читал. Хотя библиотека корпуса из-за недостатка средств с 1805 по 1818 г. почти не обновлялась, но в ней к этому времени был собран хороший литературный фонд на русском и европейских языках. Ради сохранения книг генерал Клингер приказал ограничить их выдачу. После 1808 г. никакие книги, кроме учебников, кадетам младше 14 лет не выдавались. Но кадет Бебутов мог свободно брать книги, поскольку он уже вышел из этого возраста.
Он много, с удовольствием читал на русском, французском, немецком, английском языках, хотя многие в корпусе считали это пустой тратой времени. Но ему хотелось быть похожим на князя П.Д. Цицианова, который в свое время показал, что значит читать и знать литературу, историю, военное искусство. Благодаря ему он с детства усвоил, что в книгах заложена великая мудрость и именно из них человек набирается ума. Князь Василий не чужд был развлечениям и шалостям вместе с товарищами, но при этом старался избегать пьяных кутежей, которыми занимались старшие кадеты. Тому были причины. Это не поощрялось в семье Бебутовых, что он твердо усвоил. Да на это у него не было и средств, в отличие от детей высокопоставленных родителей. Василий всегда тщательно готовился к занятиям и был в числе первых учеников на курсе. Он четко усвоил, что приехал в далекий Петербург именно для того, чтобы учиться, набраться ума.
Василий Бебутов любил лагерные сборы, продолжавшиеся 4–5 недель с конца июня до начала августа. На них кадеты поселялись в палатках и жили жизнью настоящего воинского подразделения – с дневальствами, караулами, приборками и, конечно, строевыми занятиями. Учебы во время лагерных сборов не было, зато строевая подготовка являлась обязательной каждый день, кроме воскресений.
Важность этих сборов для кадетов состояла еще и в том, что они проводились под Петергофом, вместе с полками гвардии и Петербургского гарнизона. Там уже была нешуточная служба – на глазах императора, великих князей и больших генералов приходилось строем заниматься серьезно, держать выправку и по-настоящему познакомиться с походными условиями. Кадеты очень гордились тем, что они вместе с императорскими детьми находились рядом с гвардейцами, многие из которых побывали в сражениях, имели боевые награды.
В среде кадетов очень высоко ценились, значительно выше, чем в учебе, молодцеватость и выправка в строю, аккуратность и педантизм в форме, потому что это было ярким лицом корпуса за его стенами. Князь Василий, стройный, подтянутый, в меру застенчивый, и здесь преуспевал.
Учился Василий в корпусе без особой натуги, легко и даже блестяще. Здесь проявилось воспитанное в детстве трудолюбие, жажда познать новое. Был он дисциплинированным. Поэтому его всегда отмечали и числился он среди лучших учеников. Его часто ставили в пример другим. Однако он этим не кичился, а всегда был готов помочь своим товарищам. За это его уважали однокашники. О своей жизни, учебе он часто писал домой. Успехам сына радовался отец, домашние и близкие.
Так незаметно в учебных заботах пролетело два года напряженных занятий в корпусе. И теперь уже грустно было расставаться с новыми друзьями, многие из которых стали близкими людьми. Но ему так хотелось побыстрее попасть домой, где он не был два года, увидеть родных, близких, город Тифлис, пройтись по его улицам и укромным местам.
Именно здесь в корпусе юный князь Бебутов приобрел не только знания, но и навыки дисциплины, порядка, стойкости, чувство собственного достоинства. Для него на всю жизнь стал определяющим девиз российского офицерства: «Служба Государю, жизнь Отечеству, честь никому!», которому он неукоснительно следовал во всех жизненных ситуациях.
Корпус Василий окончил, получив самую высокую оценку. Об этом наилучшим образом свидетельствовало то, что среди рисованных портретов лучших обучающихся, помещенных в читальном зале корпуса, был десятым и портрет армянина князя Василия Бебутова, подданного Российской империи.
Когда разъезжались из столицы, то друзья-товарищи с юношеской непосредственностью обещали непременно поддерживать не только связь, но и в любое время, в любой обстановке прийти на помощь друг другу. У каждого по-разному сложилась жизнь. Но все они гордились тем, что окончили 1-й Кадетский корпус.
После окончания корпуса с блестящими успехами, 18-летний князь Василий Бебутов был выпущен прапорщиком в Херсонский гренадерский полк, расквартированный в Грузии. Он сам рвался домой, да и начальство посчитало, что выпускник корпуса должен быть там, где он был нужнее. Российским властям в Закавказье нужны были коренные жители, образованные и преданные России. Они должны были активно и грамотно участвовать в проведении там пророссийской политики, особенно в национальных районах, являться надежной опорой российских властей.
Домой прапорщик князь Бебутов возвращался той же дорогой, по которой уехал из Тифлиса два года назад. Но теперь, прожив два года в столице, близко пообщавшись с русскими людьми вне Кавказа, он несколько иначе смотрел на окружающий мир. Теперь он был для него намного понятнее. Он воочию увидел Россию во всем ее многообразии, гордился тем, что живет в этой могучей державе и теперь будет служить ей.
Ему очень хотелось приехать в Тифлис как можно быстрее. Но транспорт тогда был таким, что путь от Петербурга до Кавказа приходилось преодолевать очень долго. Это только фельдъегерские тройки проносились мимо вихрем с характерным звоном колокольчика. Князь Василий видел на станциях, как там ожидали фельдъегерей. Смотрители или по их поручению кто-то из служителей прислушивались, не звенит ли фельдъегерский колокольчик. Заслышав его, все приходили в движение: готовили лошадей для перепряжки, наготове был кузнец на случай исправления поломки в возке, готовилась легкая закуска или обед, если того пожелает фельдъегерь. Пока меняли лошадей, фельдъегерь на ходу перекусывал, слегка разминался и, как правило, снова без промедления отправлялся в дорогу. Фельдъегерями в основном были молодые офицеры, способные переносить большие дорожные нагрузки, скакать безостановочно по тряским дорогам в зной и стужу, грязь и непогоду днем и ночью по нескольку суток без отдыха, спать в пути, привыкая к такому образу жизни.
Но поскольку стояла хорошая погода, было тепло и сухо, то и остальные путники, имевшие подорожные по государственной надобности, ехали относительно быстро. Теперь молодой офицер Бебутов смотрел на все окружающее глазами человека, пожившего непосредственно в столице России, познавшего в какой-то мере российские порядки, обаятельных русских людей и по-настоящему влюбившегося в них. Он еще и еще раз всматривался в необъятные российские просторы и гордился тем, что находится на службе Российского государства, живет в нем и не чувствует, что он принадлежит к другой национальности. Его особенно радовало то, что русские люди к нему везде относились приветливо и радушно, не обращая внимания на его принадлежность к другому народу.
Вот, наконец, и уездный город Ставрополь, который считался воротами Кавказа. Все, кто прибывал сюда, считали, что теперь они уже ступили непосредственно на Кавказскую землю, хотя многим предстояло проделать еще не одну сотню верст, чтобы добраться до места назначения.
В Ставрополе пришлось несколько задержаться, пока не сформировался поезд для дальнейшего следования, которому было придано сопровождение, так как дальнейший путь для них был не безопасен. Поэтому часто из проезжавших через Ставрополь на юг формировали обозы, для сопровождения которых выделялись несколько десятков казаков, иногда пара легких пушек. Так и ехали они от крепости к крепости. По пути еще были губернский город Георгиевск, затем последний крупный населенный пункт перед броском через Главный Кавказский хребет Владикавказское укрепление, а затем тяжелый и опасный переезд через хребет и конечная цель город Тифлис.
В Тифлисе прапорщик Василий Бебутов появился в новой военной форме, которая очень шла к нему – статному, подтянутому. Дома его с почетом и гордостью встретили родные, близкие, знакомые. Свидетельством тому были пышные застолья, организованные отцом и родственниками, как всегда, обставленные с кавказским размахом, обилием вина и закусок, которые длились несколько дней. Все радовались успехам и познаниям молодого Бебутова. Произносились многочисленные тосты в честь российского императора, отца Иосифа, юного Василия.
Но, конечно же, больше всех успехам сына радовались родители, особенно отец, глядя на сына-офицера, который блистал среди окружающих своими знаниями, манерами, вызывая уважение окружающих. А уж младшие братья не спускали с Василия глаз.
Теперь князь Иосиф прекрасно понимал, как мудро он поступил, последовав совету князя П.Д. Цицианова, определив Василия в кадетский корпус в далекой российской столице, несмотря на противодействия многочисленных родственников. Он с удовольствием смотрел, как некоторые из них теперь с завистью поглядывали на молодого князя и отца, а кое-кто видел в нем и потенциального жениха для своих дочерей. Теперь все понимали, что для него открывалась блестящая карьера на русской службе. Еще бы не радоваться князю Иосифу. Ведь Василий Бебутов был первым из закавказских князей, получившим по тем временам всестороннее военное и светское образование в столице государства Российского, Петербурге, в привилегированном учебном заведении.
Окружающие расспрашивали молодого Бебутова о столице, о его знакомствах. Интересовались тем, как в корпусе организовано обучение, как там относятся к нерусским. Во всем чувствовался неподдельный интерес особенно тех, у кого были молодые сыновья, которым, возможно, предстояло попасть в корпус на учебу. Это было тем более важно в связи с разговорами о том, что прапорщику князю Василию прочили высокую должность не в полку, а в самом штабе Отдельного Грузинского корпуса.
Так молодой князь Бебутов вступил в самостоятельную жизнь на родной земле и служение своей стране, своему народу.