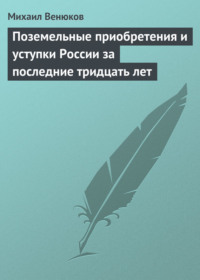Czytaj książkę: «Поземельные приобретения и уступки России за последние тридцать лет», strona 2
Изложив эти основные данные об истории приобретения и утраты нами северо-американских владений,2 имевших пространство свыше 23,000 кв. миль, мы в праве теперь спросить себя: вполне ли основательно мы поступали при последнем акте? Что колонии приносили мало выгоды России – это справедливо; что охранять их в военное время было трудно – это также несомненно; наконец, что американцам хотелось приобрести их в силу известного учения Монроэ – это опять неоспоримо. Но против этих трех основных мотивов купли-продажи желающие могли бы выставить немало возражений. Во первых, бывшие наши американские колонии, по климату и естественной производительности, были вовсе не из худших русских земель. Благодаря существованию известного морского течения, куро-сиво, этого гольфстрима Тихого океана, Ситха, Аляска и Алеутский архипелаг отличаются климатом более теплым, чем многие другие части России, и если летом не бывает там жаров, то и зимой нет большой стужи. Вследствие этого, а также значительной влажности воздуха, страна богата лесами, которых великолепие прекрасно изобразил Киттлиц в атласе к «Путешествию Литке», и если мы не умели пользоваться этим богатством, то вина падает на нас самих. Не забудем, что в Шанхае, Фучжеу-фу и Гонконг мачтовые деревья продаются по 120–150 металлических рублей. Различные металлы, не исключая и золота, найдены ныне в недрах «территории Аляски»; у берегов её ловится много бобров, моржей и тюленей, а в соседних морях промышляют китов. Кто мешал нам пользоваться всем этим к немалой для себя выгоде? Переселив в колонии несколько тысяч русских людей, особенно из бедных северных губерний, населенных зверопромышленниками и рыболовами, мы могли бы расширить русскую национальную область на 23,000 кв. миль, земель во всяком случае более производительных, чем киргизские и туркменские степи. Во вторых, что касается охраны колоний во время войны, то можно заметить, что если бы отправлять в Тихий океан перед каждой войной, хоть треть того флота, который теперь бесполезно замерзает каждую зиму в Балтийском море и оставался на кронштатском рейде, вот уже две войны, то, конечно, мы обеспечили бы полную безопасность не только американских колоний, но и владений наших у восточных берегов Азии. Да сверх того, моряки наши имели бы широкую практику от постоянных плаваний не в шхерах, где им не с кем будет сражаться, и где они ежегодно губят по кораблю, а в океанах…. Что американцы желали приобрести американскую землю – это понятно; но ведь не силою же добивались они от нас этого приобретения; уступать же обширную страну ради одной «дружбы», ради ожидания в «будущем» политического союза – по меньшей мере наивно…. Впрочем, оставим все дело о продаже американских колоний без дальнейшего рассмотрения, как вполне и безвозвратно решенное. Сожалеть о их утрате значило бы теперь почти то же, что горевать о соединенном с нею прекращении незахода солнца над русской империей….. Дельнее будет заметить, что при продаже колоний мы связали себя условием, которого смысл едва ли особенно для нас выгоден. Разумеем оговорку о связи с русскою церковью тех лиц православного исповедания, которые остались в бывших наших владениях, но сделались американскими гражданами. Если бы мы вздумали строго следить за поддержанием этой связи, то, конечно, в короткое время поссорились бы с американцами; если же этой строгости не имелось в виду, то, кажется, незачем было и договариваться о вероисповедании людей, совести которых, во всяком случае, никто не стад бы насиловать в стране такой полной религиозной свободы, как Соединенные Штаты. Не возникни, в силу сказанного условия, русского епископства в Сан-Франциско, не было бы, конечно, и тех «соблазнов», которые имели место в православной общине этого города, к невыгоде русского имени.