История Польши. Том I. От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X–XVIII вв.
Tekst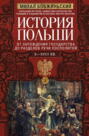


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1050 str. 8 ilustracji
- Kategoria: literatura historyczna
Внутреннее развитие Польши
Внешняя политика Казимира свидетельствует о его чрезвычайном благоразумии, знании дела, понимании складывавшихся международных отношений и мудром использовании собственных сил. Ведь просто так он не получил бы прозвище Великий, которым наградило его уже непосредственно следовавшее за ним поколение. Казимир сделался великим только потому, что, щадя народные силы и избегая бесполезных, истреблявших население войн, умел объединить народ в дружной работе внутри страны и, благодаря блеску своего гения и непоколебимой энергии, руководить им.
Такое руководство сильно возвышает его в наших глазах, потому что в то время польский монарх вовсе не был обязан заниматься организацией народного труда. Ведь государственное устройство было таково, что общество, разделенное на сословия, трудилось само по себе и не могло требовать помощи от государя, который должен был только оберегать границы государства и сохранять равновесие внутри страны. Однако Казимир Великий умел возвыситься над своими обязанностями и стать выше понятий, принятых тогда в обществе. Благодаря своей проницательности он заметил, что помощь, оказанная общественному труду, увеличивает силы народа, а следовательно, и государства. Великому королю не требовалось изменять основы и средства, на которых строился этот труд уже с середины XIII века, но его всеохватывающий ум успел в каждой области открыть новые сферы для народного труда и при помощи новых стимулов сделать его еще напряженнее.
В первую очередь Казимир Великий покровительствовал процветавшим в городах ремесленному производству и торговле. Причем транзитная торговля веками развивалась по двум великим путям, шедшим по Польше и пересекавшимся в Кракове. Однако ее культивировали иностранные купцы, так называемые «гости», которые следовали через Польшу со своими товарами.
С момента основания в середине XIII века города недалеко от крепости Краков эта торговля и все доходы от нее были перехвачены краковскими купцами. Они сами на телегах караванами следовали через города Сонч и Кошице в Венгрию для закупки в большом количестве меди и железа, а затем двигались с этим товаром из Кракова в Торунь, откуда на своих кораблях по Висле и морю шли во Фландрию и Англию. Там они закупали и ввозили в Польшу уже в основном сукно всех видов, южные вина и фрукты.
Таким же путем они отправлялись и в русские земли, сначала во Владимир-Волынский, а затем во Львов и генуэзские фактории на черноморском побережье, откуда привозили восточные изделия из шелка и пряности, доставляя их во Фландрию и Вроцлав, а уже из этого города в Нюрнберг. В свою очередь, из Нюрнберга шли изделия из металла и кожи.
С этой транзитной торговлей был тесно связан вообще весь польский импорт и экспорт. Причем самым важным товаром здесь выступал свинец из рудников Олькуша, который направлялся во Фландрию и Венгрию, соль из Велички и Бохни, шедшая в Венгрию и Силезию, дерево, особенно тис, сплавлявшийся по рекам Дунаец и Висла в Торунь. В свою очередь, в Польшу из Силезии и через Силезию завозилась сельдь, силезские ткани и пиво, а из Венгрии – ткани и меха.
Правители получали от торговли большой доход за счет пошлин на товары. Однако большим препятствием на пути ее развития была конкуренция между городами. Краков, Торунь, Львов и Вроцлав стремились к получению так называемого «складского права», заключавшегося в том, что привезший товар иностранный купец, прибывший с ним в город, не мог двигаться дальше, а был обязан продать его местным торговцам, которые затем перепродавали его с произвольной наценкой.
Стремление получить такое право всеми правдами и неправдами мешало торговле и приводило к тому, что купцы начинали окольными путями обходить имевшие «складское право» города. Кроме того, такое вызывало многочисленные жалобы и споры, с которыми торговцы обращались к правителю. К тому же от торговли во многом зависела и внешняя политика. При этом, благодаря имевшемуся опыту и капиталу, а также поддержке короля, в торговле доминировал Краков. Однако он не смог помешать Вроцлаву перехватить торговый путь, шедший через Люблин на Русь и Литву.
Основываясь на этой процветающей торговле и богатея на ней, расширяя круг своих отношений и предприятий, горожане, правда в основном немцы, представляли собой экономический, а также культурный и политический фактор, конкурировавший со шляхтой и составлявший серьезную опору трона на протяжении всего Средневековья.
Особое внимание Казимир Великий уделял добыче полезных ископаемых. Соляные копи в Величке и Бохне, открытые в середине XIII века с привлечением немецких профессиональных горняков, получили специальное оборудование, выделенное им в 1368 году по отдельному статуту по солеварению, что позволило наладить продажу соли. Помимо этих соляных копий во времена Казимира в Олькуше и Хенцинах были созданы свинцовые рудники, организована в различных местах добыча полезных ископаемых и налажена переплавка железных руд.
Однако, прежде всего, правление Казимира Великого характеризовалось проведением в больших масштабах колонизации. Причем не только немцами, но и поляками по германскому праву. В Червонной Руси тем временем появились очень одаренные в торговых делах с Востоком армяне. Они были приняты очень гостеприимно и наделены широкими привилегиями, что быстро привлекло их собратьев в Польшу и способствовало ее развитию.
А вот о евреях того же сказать нельзя. Желая привлечь в страну капиталы и через это развить промышленность для увеличения королевских доходов, король покровительствовал все более усиливавшейся колонизации страны со стороны евреев, которые, подвергаясь преследованиям за границей, массово переселялись в Польшу. Он урегулировал условия их пребывания в стране в особых привилегиях и взял евреев под личную опеку. Однако, соблазнившись сиюминутной выгодой от наплыва евреев, Казимир и представить себе не мог, насколько прочно они сохранят свою обособленность, оставаясь чуждым нашему обществу элементом по вере, языку и характеру, и какое губительное воздействие этот элемент будет оказывать на народ.
Шляхта стала теперь более эффективно, чем при помощи оружия, захватывать новые наделы. Ей не хватало земли, особенно в Великой Польше и Мазовии, и поэтому она в массовом порядке устремилась на восток, беря в аренду недавно занятые Казимиром земли. В результате благодаря этому колонизационному движению шляхты и крестьян в годы правления Казимира Великого были окончательно возделаны и заселены земли не только Красной Руси и Люблина, но и все западные прикарпатские взгорья (теперешняя Западная Галиция). Причем в еще больших масштабах делали это богатые паны, имевшие в своем распоряжении более значительные капиталы. Они устремились с запада на восток и начали основывать там громадные поместья, стоимость которых с каждым днем только возрастала.
Среди шляхетского сословия, члены которого, вследствие разделов наследственных земель на протяжении XIII века уравнялись между собой в имущественном отношении, в первой половине XIV столетия снова создаются огромные состояния, характерные для магнатов. Но они уже не стали доставаться в удел тем родам, которые до того времени играли первостепенную роль. Главенствовавшие ранее Грифиты и Лабендзи отошли на второй план. При этом еще прочно держались Одровонжи. Однако всех их затмили Топорчики, которые после долгого перерыва возвратили себе свою былую славу времен Сецеха, имея родовое поместье в замке Тенчин. Правда, еще при Локетеке в Тарнове и Мелыптыне появились Леливиты. Как бы в доказательство того, что новые времена требуют новых людей, в Великой Польше начинают играть большую роль Зарембы и Борковы, прибывшие в Польшу в середине XIII века.
Вместе с расширением немецкой колонизации развились также и стали красоваться в полном своем блеске искусства, занесенные ею в Польшу, – живопись, скульптура, архитектура и ювелирное дело. Их животворное влияние отчетливо просматривается в великолепных королевских печатях, миниатюрах, сохранившихся в рукописных кодексах, и в церковных памятниках. Мнение о том, что Казимир Великий «застал Польшу деревянной, а оставил ее каменной», – совершенная правда. Только при Казимире и по его деятельной инициативе в Польше начали воздвигать из камня укрепленные замки, королевские и рыцарские дворцы, башни, ворота, ратуши, гостиные дворы и даже частные дома в городах. Старинные же костелы стали превращаться в огромные храмы, а романский стиль уступил первенство готическому.
Заботясь об общем благосостоянии, Казимир обращал также внимание и на духовные нужды народа. Церковь, воплощавшая в себе в то время не только образец нравственности, но и просвещения, нашла в нем ревностного защитника и благодетеля. По всей стране распространились церковно-приходские школы, какие ранее существовали только в стольных городах. В них во всем их объеме преподавались так называемые «свободные науки», подготавливавшие к курсу богословия и права. В стране тогда уже появились светские люди, умевшие говорить и писать на латинском языке, которые могли исполнять обязанности писарей в городских и земских судах. Многие поляки отправлялись на учебу также за границу. Одни – чтобы при иностранных дворах набраться рыцарской благовоспитанности и присмотреться к чужому искусству управления. Другие – чтобы в заграничных университетах, а именно в Парижском, Болонском или Пражском, познать тайны тогдашней правовой и богословской науки, а затем, вернувшись на родину, блистать своими знаниями.
Впрочем, наука, которой покровительствовал Казимир Великий, отличалась ярко выраженной практической направленностью. Она не создала каких-либо произведений литературы, и от всего XIV века до нас дошла только одна хроника, написанная, правда, с большим политическим смыслом и охватывающая правление Казимира, а также его преемника Людовика до 1384 года, автором которой является гнезненский архидиакон и коронный подканцлер (заместитель канцлера) Янко из Чарикова204.
Зато тогдашние доктора и магистры римского и канонического права занимали самые почетные места в польской церковной иерархии, находились подле короля и наполняли его канцелярию. Им приходилось вести трудные дипломатические переговоры и процессы с орденом, а также устраивать внутренние дела, но они всегда выручали короля с честью для себя и родины. Стремясь расширить в стране столь благотворное влияние науки, главным образом правоведческой, Казимир с разрешения папы Урбана V по образцу Болонского университета основал наконец в 1364 году университет в Кракове. Богословие в нем еще не преподавалось, но зато на первый план была выдвинута юриспруденция. Ее преподавали семь профессоров, очевидно сперва вызванных из-за границы.
Для открытия же философского факультета тоже имелась хорошая основа в виде городской приходской школы, в которой преподавание находилось на весьма высоком уровне. Поэтому требовалось всего лишь реорганизовать ее и придать ей университетский характер, что не составляло особого труда.
В результате в Средней Европе возник источник знания, значение которого еще более усиливалось вследствие того, что, кроме основанного в 1347 году Пражского университета, других подобных учреждений не было даже у немцев.
Эта животворная деятельность продолжалась около сорока лет, и вскоре обнаружились ее плоды. Несмотря на оскорбительный Вышеградский мир, Польша немедленно заняла почетное положение в Европе, а папы, короли и императоры наперебой начали стараться обрести дружбу польского короля, и голос Казимира Великого приобрел огромное значение в любом политическом вопросе, волновавшем тогдашний мир. Чужеземцы почувствовали, что имеют дело с народом, который мог не только выдержать одно или два сражения, но и вести войну с такой же энергией и неутомимостью, какой до этого отличался в своем мирном труде.
При этом лучше всего жизненная сила Польши и ее цивилизующее значение обнаружились в ходе присоединения Червонной Руси. Когда-то поляки умели только сражаться, делать набеги и опустошать, но теперь они научились прочно присоединять к себе добытые земли. Вместо грабежей и насилий Казимир окружил приобретенный край самой тщательной заботой. Он оставил ему его законы и учреждения и только посадил в нем своих наместников – старост, а польский народ, помогая королю, переселялся на Русь, поднимал в ней пустоши, распространяя польские обычаи, неся с собой польский язык и просвещение.
Казимир, конечно, не смирился с мыслью о потере Мазовии и Силезии, но он все же добился того, чтобы чешский король отступился от своих верховных прав на Мазовию. В 1356 году князь Мазовецкий Земовит торжественно присягнул Казимиру на верность, и в результате эта древняя польская земля укрепила свои связи, неразрывно соединявшие ее с Польшей. В 1365 году в Польшу добровольно вернулись захваченные бранденбургскими маркграфами Санток и Дрезденко.
Однако сильнее всего проявилось значение личности Казимира в 1363 году на конгрессе, прошедшем в Кракове и имевшем цель примирить императора Карла IV с могущественным сыном Карла I Роберта венгерским королем Людовиком. Кроме императора и Людовика, в Краков приехали датский и кипрский короли, баварский герцог, почти все князья из династии Пястов из Силезии, мазовецкий князь и, наконец, князь Щецинский Богуслав, на дочери которого Елизавете там же в Кракове женился император Карл IV, закатив пир по этому случаю.
При этом Польша потратила такие огромные средства, с какими, без всякого сомнения, не могли сравниться затраты на прием, организованный некогда Болеславом Храбрым императору Оттону. Ведь тогда только государь блистал пышностью. Теперь же во всей своей красе мог показать себя весь народ во всех его слоях. Пир, данный гостившим у Казимира монархам краковским горожанином Вежинком, своим великолепием и розданными на нем подарками намного превосходил королевские приемы.
Государственное устройство
Вот к каким выдающимся результатам привела внутренняя политика Казимира Великого, следовавшая хорошему анжуйскому примеру, вдохновленная его необычайным талантом, приспособленная к местным условиям и твердо придерживавшаяся раз и навсегда избранного курса. Ее целью и лозунгом было пробуждение общества к самостоятельному труду. Поэтому вся экономическая и цивилизаторская деятельность великого короля и проводилась в границах существовавшей общественной организации. Он не только не уничтожал деление общества на сословия, а, наоборот, старался извлечь из него пользу и для этого еще больше укрепить его.
Однако, уважая самоуправление сословий, церкви, иностранных колонистов, шляхты, епархий, городов, земель и самых мелких общественных групп, такой проницательный в политическом отношении монарх, каким был Казимир Великий, не мог не видеть, что Польше недостает сильной и хорошо продуманной общегосударственной организации, которая могла бы обеспечить результативность народного труда и гарантировать единство нового государства. Поэтому, пользуясь учреждениями, введенными уже отчасти Локетеком, Казимир Великий создал над сословным самоуправлением иерархию государственных чиновников, на которую он мог вполне положиться и с чьей помощью ему было легче осуществлять свои планы.
Прежде всего, были учреждены новые придворные должности: подскарбия, который должен был заведовать поместьями и доходами короля;
канцлера и подканцлера (заместителя), заведовавших королевской административной, судебной и дипломатической канцелярией;
маршалка, заботившегося о порядке в королевском дворце, что прежде было обязанностью воеводы.
Эти должности заняли самые знаменитые люди, отличавшиеся образованностью и талантом и являвшиеся правой рукой короля. В результате при дворе Казимира Великого появилась настоящая школа общественной жизни, традиции которой пережили великого короля и были унаследованы нашими политическими деятелями XV столетия.
Затем Казимир Великий последовал примеру короля Вацлава и в каждом уделе ввел должности старост, отдав под их начало вооруженные дружины. Эти старосты, полностью зависевшие от короля и слепо повиновавшиеся его приказам, стали представлять собой самую сильную, всегда надежную основу королевской власти и служили залогом государственного единства. Они преследовали разбойников, судили преступников, схваченных на месте преступления, и в подобных случаях немедленно выносили безапелляционные приговоры. Кроме того, старосты использовали вверенные им вооруженные дружины для обуздания властолюбивых поползновений со стороны городов или могущественных духовных и светских панов, укрощали мятежи, которые время от времени поднимали земские должностные лица, недовольные твердым правлением короля.
Крепкая королевская рука справилась даже с таким могущественным лицом, каким являлся познаньский воевода Мацей Борковиц205. Когда в 1360 году он поднял мятеж, то Казимир Великий приказал схватить его и уморить голодом в темнице.
Старосты, поставленные в больших и самых отдаленных от королевской столицы, каковой в то время являлся Краков, уделах, например в Великой Польше, имели под своим началом бургграфов, размещавшихся в главных городах отдельных повятов206. Они, обходясь этими бургграфами в более мелких делах, назывались наместниками и исполняли функции королевской власти.
Эти старосты или наместники, подобно королю, располагали правом чинить безотлагательный суд, свободный от проволочек и формализма, которые были присущи обычным процессам, что являлось необходимым для обеспечения общественного порядка и избавления Польши от бед, характерных для Средневековья, – разбоя рыцарства и так называемого «кулачного права».
В Малой же Польше, где король бывал чаще всего, не было необходимости в назначении такого старосты-наместника. Тем не менее в главных городах для их обороны имелись бургграфы, а также чиновники, занимавшиеся расследованием преступлений и называвшиеся палачами. Только при правлении Людовика, который не мог находиться в крае, в Малой Польше тоже в главных городах для поддержания общественного порядка и наказания преступников были введены должности старост.
Старосты в Великой Польше, помимо государственной власти, получили в свои руки большие доходы от королевской собственности, а в краковских землях этим занимались особые прокураторы, управляющие и руководивший ими наместник. При этом в статуте от 1368 года король постановил, что все доходы, выплачиваемые натурой, староста может использовать в личных целях и для поддержания своей должности, а доходы в денежной форме должны передаваться в казну монарха. Тогда же появился также обычай, по которому король мог сдавать некоторые поместья в аренду или закладывать их, если в том появлялась необходимость.
Двойная иерархия должностных лиц, сохранявшаяся вплоть до конца XV века, показывала отличные результаты. И такое было обусловлено тем, что если королевские чиновники обеспечивали исполнение королевских приказов, то независимые церковные, земские и городские чиновники заботились об интересах церкви, крестьян и горожан.
При этом обе иерархии отлично дополняли друг друга. Причем самоуправление, предоставленное уделам, послужило основной причиной, побуждавшей все соседние земли к соединению с Польшей. И блестящим примером в этом деле объединения являлась Червонная Русь, которой были оставлены все права и которая со стороны поляков не претерпела никакого притеснения. Впрочем, Казимир не оставил самоуправление земель и городов без своего надзора и влияния.
Король был верховным судьей и как таковой разрешал споры между сословиями. Объезжая страну, он не раз заседал на судебных вече, а если таковых не было, то призывал ко двору судью, помощника судьи, а также писаря и с их помощью на так называемом «придворном суде» решал важнейшие судебные и административные дела земли, в которой находился. Вердикт земского суда, вынесенный на «рочках», можно было обжаловать на вече или «придворном суде» и потребовать нового приговора.
Наряду с этим король созывал еще в данных уделах, как, впрочем, и во всех землях, епископов, земских сановников, воевод, кастелянов, а иногда и чиновников более низкого ранга на собрания, на которых выслушивал их мнения по политическим вопросам, стараясь приблизить к себе, сплотить их и заставить мыслить в одном направлении. И если на таких вечах и собраниях Локетек уже издавал свои постановления, то Казимир в 1347 году задумался о необходимости введения достойного законодательства.
Право, которым до той поры руководствовались крестьяне, издавна вырабатывалось под влиянием церковных уставов и княжеских распоряжений. Однако оно оставалось традиционным, то есть неписаным, и поддерживалось единственно устной традицией и постоянной судебной практикой. При этом оно вполне соответствовало правовому сознанию и существовавшим отношениям, и поэтому население упорно его придерживалось, видя в нем часть своего самоуправления и бесценное наследие предков.
Вместе с тем земское право, именно потому, что оно было традиционным и неписаным, постоянно давало поводы к многочисленным разночтениям и злоупотреблениям. Кроме того, оно не несло в себе задатков дальнейших реформ и в каждой земле вырабатывалось в некоторой степени по-разному.
Склонить крестьян к принятию писаных законов, к одобрению хотя бы осторожной и несмелой реформы оказалось чрезвычайно трудной задачей. Однако, опираясь на таких известных законников, как архиепископ Гнезненский Ярослав Скотницкий, который был когда-то студентом, а потом ректором Болонского университета, а также на доктора права и краковского канцлера Януша Стржелецкого, прозванного Суховолком, Казимиру все же удалось ее решить.
И эта задача была поистине великой, если принять во внимание, что в уделах существовали довольно разные правовые обычаи.
Сначала он стал издавать на специально созванных для этого веча духовных и светских сановников обширные статуты, которые предназначались отдельно для Великой Польши и отдельно для Малой Польши, а также обязательные для исполнения во всей Польше постановления. Приближая друг к другу законы этих двух огромных уделов, он осуществлял это под лозунгом, который сводился к тому, что коли государством правит один государь, то в нем должно быть единое право и одна общая денежная система207.
При этом внешняя форма статутов Казимира Великого соответствовала многочисленным и более давним статутам синодов, от которых и были заимствованы латинский стиль, юридическая терминология, порядок и расположение предписаний. Однако, основываясь на существовавшем в то время обычном праве, эти предписания реформировали его, устраняя почву для многочисленных злоупотреблений и лихоимства со стороны судебных должностных лиц, что достигалось более суровыми наказаниями за причиненное насилие и за иные преступления.
Эти предписания стремились искоренить также практиковавшиеся тогда произвол и самоуправство со стороны споривших сторон, обычай решать тяжбы силой и заменить все это основанным на конкретных правовых положениях судебным разбирательством.
Короля неоднократно упрекали в нарушении земского права и самоуправления. Причем часть великопольской шляхты, заразившись примером соседней Германии, в 1352 году организовала первую в Польше конфедерацию под предводительством познаньского воеводы Мацея Борковица. И этот союз, насколько мы можем предполагать, стремился во что бы то ни стало воспрепятствовать проведению законодательных реформ, которые начал осуществлять королевский староста Вежбента.
Однако Казимир сумел убедить в своей правоте несогласных и мирно поладить с ними. Наиболее же упертых, как уже отмечалось выше, он усмирил. Пользуясь своей властью над шляхтичами, король пошел даже на то, чтобы отобрать у них в той или иной степени незаконно приобретенные владения во время частой смены правителей в конце XIII – начале XIV века.
Следует отметить, что статуты Казимира Великого явились симптомом фундаментальных изменений, произошедших в положении сельских жителей. К тому времени многочисленный некогда слой личных рабов уже почти исчез. В монарших владениях они легко слились с остальным подданным населением, поскольку оба этих слоя подчинялись одним и тем же чиновникам, а бремя их податей практически сравнялось. В церковных же и шляхетских владениях подобный процесс происходил в основном под влиянием колонизации.
Дело заключалось в том, что в новые поселения, где были гарантированы свобода и строго определенные повинности, в массовом порядке начало убегать крестьянство. А это заставляло духовенство и светских панов регулировать крепостные отношения. Ситуация обострялась, однако Казимир Великий разрешил вопрос. В своих статутах он запретил своим подданным убегать из поселений, когда им вздумается, но признал за ними право покидать их в установленный срок и после выполнения своих обязательств по одному или по двое в год. При этом всем дозволялось уйти, если их хозяин был виновен в ограблении, подвергся интердикту или изнасиловал дочь или жену своего крестьянина.
Тем самым статуты предоставили крестьянам, даже живущим на основе польского права, личную свободу и право жаловаться на незаконные притеснения своего пана. Недаром Казимира стали называть «крестьянским королем».
Гораздо сложнее для Казимира оказалось решить вопрос с духовенством, которое, по общему признанию, руководило обществом, но в чьих рядах забота о собственном мирском благополучии была слишком велика. Духовенство хорошо обеспечивалось за счет десятины, получаемой от всех доходов мирских хозяйств, и за счет доходов от церковного имущества. Однако оно стремилось полностью освободить свои угодья от всех повинностей в пользу государства, хотя они и без того были освобождены от многих выплат. А ведь эти средства требовались для организации обороны страны.
Жадность некоторых священнослужителей, особенно захвативших монастыри немцев, пользовавшихся неграмотностью светского общества, зашла так далеко, что для снятия с себя повинностей они стали прибегать к фальсификации привилегий. При этом духовенство открыто стремилось к тому, чтобы полностью восстановить десятину и отменить льготы, которые были введены в виде четко обозначенной меры взимания части урожая зерна и фиксированной суммы денег с деревень, живших по немецкому законодательству. Оно желало также отмены льгот с так называемой «нови» (со свежевыкорчеванных участков) и «вольной десятины», которую шляхта платила со своих фольварков церквям по собственному выбору, то есть своему приходу, нередко только что созданному.
Многие священнослужители поддерживали такие требования и реагировали на причиненный им существенный или предполагаемый ущерб наложением анафемы на своих противников и интердикта на население, проживавшее в их владениях.
Такое испытал и сам король, когда епископ Краковский Ян Грот в споре о величине податей с одного из епископских поместий предал его анафеме. Казимир воспринял такое как оскорбление своего величества и приказал передавшего это клирика Баричку утопить в Висле.
Когда же споры между преемником Грота Бодзантой и светским обществом о десятинах и интердиктах ожесточились, король по примеру своего отца передал дело в арбитражный суд архиепископу Ярославу, которому доверял как лучшему своему советнику. Архиепископ вынес краковской епархии объемный компромиссный приговор, а потом аналогичный своей архиепархии, в которых более подробно изложил некоторые спорные детали и сохранил сложившийся статус-кво, перекрыв тем самым духовенству возможность восстановления повсеместной десятины. При этом отлучение от церкви за захват десятины он сохранил, но интердикты ограничил, «чтобы все благочестивое население не было лишено таинств из-за преступления одного отлученного от церкви».
В городах королю предстояло решить другую задачу. У них было свое Магдебургское право, и суды основывались именно на нем. На этом праве строили свою работу также городские советы, обладавшие законодательной властью и издававшие вил керы208.
Опираясь на них, король не раз вызывал их представителей на королевский совет и старался добиться одобрения от главных городов своих династических договоренностей с Людовиком. Города, однако, не имели общего органа, какой создала себе на вече шляхта, но один раз, в 1353 году, шесть великопольских городов образовали даже конфедерацию – союз для совместной борьбы с грабителями, поскольку великопольский староста не смог решить данный вопрос.
Хуже всего было то, что при отсутствии общего законодательного органа города для выяснения правовых вопросов отправляли своих уполномоченных для консультации в Магдебург, то есть за границу. Желая исправить это, Казимир отдельным законом запретил направлять апелляции в Магдебург и реформировал судебную систему в провинциях, поставив ее выше Магдебургского права. Для этого им был создан верховный суд в замке Кракова, которому были подчинены провинциальные суды, а им, в свою очередь, все солтысы, в том числе и в частных владениях. В результате солтысы вышли из-под влияния своих панов и подпали под власть государственных королевских судов.
Внутренне объединенное и сплоченное польское государство могло уже противопоставить внешнему врагу совершенно иные силы, чем прежде. Тем не менее при стремлении разделаться со своим смертельным врагом – Тевтонским орденом необходимо было прежде всего сравняться с ним и даже превзойти его в военной организации.
Некогда военная служба являлась личной обязанностью рыцарского сословия. Однако уже в XIII веке ее могли исполнять только те, кто владел собственным поместьем и мог поэтому приобрести себе дорого стоившее вооружение и обеспечивать себя во время войны. Впрочем, чем больших издержек требовали походы, тем заметнее уменьшалось число людей, принимавших в них участие. К тому же духовенство, несмотря на свои громадные имения, уклонялось от поставки вооруженных ратников, отговариваясь каноническим правом, а число богатых шляхтичей уменьшилось в результате разрастания родов и раздела имений.
Такое положение Казимир Великий исправил, введя соответствующие положения, которые гласили, что:
1) военная служба соединена не с принадлежностью к шляхетскому сословию, а с обладанием земельным наделом. Согласно этому исполнять военную службу обязан был каждый житель страны, обладающий таким имением, независимо от того, к какому сословию он принадлежал, то есть наряду со шляхтичами теперь ее обязаны были отправлять также духовные лица, горожане и солтысы. При этом духовенство, очевидно, посредством заместителей;
