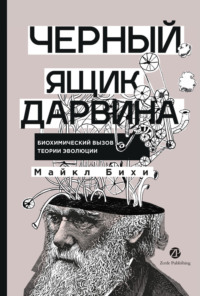Czytaj książkę: «Черный ящик Дарвина: Биохимический вызов теории эволюции», strona 4
Но даже если система неуменьшаемо сложна (и, следовательно, не может быть создана напрямую), нельзя окончательно исключить вероятность какого-то косвенного, окольного пути. Однако по мере увеличения сложности взаимодействующей системы вероятность такого окольного пути резко падает. И по мере увеличения числа необъяснимых неуменьшаемо сложных биологических систем уверенность в том, что критерий неудачи Дарвина был выполнен, резко возрастает до максимума, который допускает наука.
Теоретически может возникнуть соблазн представить, что неуменьшаемая сложность требует просто множества одновременных мутаций – и значит, эволюция может оказаться гораздо более случайным явлением, чем мы думали, но все же возможным. Такое обращение к слепой удаче невозможно опровергнуть. Тем не менее это пустой довод. Еще можно сказать, что мир довольно удачно возник буквально вчера – и сразу со всеми своими нынешними чертами. Удача – метафизическая спекуляция, научные объяснения должны ссылаться на причины. Почти все признают, что такие внезапные события были бы несовместимы с градуализмом, который представлял себе Дарвин. Ричард Докинз хорошо объясняет эту проблему:
Весьма вероятно, что на самом деле эволюция не всегда постепенна. Но она должна быть постепенной в тех случаях, когда с ее помощью пытаются объяснить возникновение сложных, будто заранее спроектированных, объектов, таких как глаз. Здесь, не будучи плавной, она вообще перестает что-либо объяснять и возвращает нас к такому понятию, как чудо, служащему просто-напросто синонимом отсутствия какого бы то ни было объяснения36.
Причина кроется в природе мутации.
В биохимии мутация – это изменение в ДНК. Для передачи по наследству изменение должно произойти в ДНК репродуктивной клетки. Простейшая мутация происходит, когда один нуклеотид (нуклеотиды – это «строительные блоки» ДНК) в ДНК живого существа меняется на другой нуклеотид. Также один нуклеотид может добавиться или удалиться при копировании ДНК во время деления клетки. Однако иногда случайно удаляется или дублируется целый участок ДНК – тысячи или миллионы нуклеотидов. Это тоже считается одиночной мутацией, потому что происходит в один момент, как единое событие. Как правило, одиночная мутация в лучшем случае вносит незначительные изменения в живое существо – даже если эти изменения нам кажутся большими. Например, хорошо известна мутация под названием antennapedia, которую ученые могут вызвать у лабораторной дрозофилы: у несчастного мутанта вместо антенн на голове растут лапки. Нам кажется, что это большое изменение, но на самом деле это не так. Лапки, вырастающие на голове дрозофилы, – это ее обычные лапки, однако как правило они расположены иначе.
Здесь пригодится аналогия с пошаговой инструкцией. Мутация – изменение в одной из строчек инструкций. Так, вместо указания: «Возьмите 6-миллиметровую гайку» мутация говорит: «Возьмите 9-миллиметровую гайку». Или вместо: «Поместите круглый штифт в круглое отверстие» можно получить: «Поместите круглый штифт в квадратное отверстие». Или вместо «Прикрепите сиденье к верхней части двигателя» мы получим: «Прикрепите сиденье к рулю» (но так получилось бы, только если бы гайки и болты можно было прикрепить к рулю). Чего мутация не может сделать, так это изменить все инструкции за один шаг – скажем, собрать факс вместо радиоприемника.
Таким образом, если вернуться к жуку-бомбардиру и человеческому глазу, вопрос в том, можно ли объяснить многочисленные анатомические изменения множеством мелких мутаций. Разочаровывающий ответ заключается в том, что мы не можем это утверждать. И защитный аппарат жука-бомбардира, и глаз позвоночного содержат так много молекулярных компонентов (порядка десятков тысяч различных типов молекул), что перечислить их – и предположить все их мутации – в настоящее время невозможно. Слишком много гаек и болтов (а также винтов, деталей двигателя, рулей и т. д.) не учтено. Наши споры о том, могла ли дарвиновская эволюция создать такие большие структуры, похожи на споры ученых XIX в. о возможности спонтанного возникновения клеток. Такие споры бесплодны, потому что известны не все составляющие.
Однако это не повод сдаваться – люди других эпох тоже не могли ответить на многие интересовавшие их загадки. Мы пока не можем проанализировать вопрос эволюции глаза или эволюции жука, но это не означает, что мы не можем оценить утверждения дарвинизма относительно любой биологической структуры. Спускаясь с уровня целого животного (например, жука) или целого органа (например, глаза) на молекулярный уровень, мы зачастую можем судить об эволюции, поскольку все части многих дискретных молекулярных систем известны. В следующих пяти главах мы встретимся с рядом таких систем и вынесем свое суждение.
Давайте вернемся к понятию неуменьшаемой сложности. На нынешнем этапе нашего разговора неуменьшаемая сложность – просто термин, сила которого в основном заключается в его определении. Мы должны задаться вопросом: как можно распознать неуменьшаемо сложную систему? Учитывая природу мутации, как мы можем быть уверены, что какую-то биологическую систему уже не уменьшить?
Первый шаг – определить как функции системы, так и все ее компоненты. Неуменьшаемо сложный объект будет состоять из нескольких частей, каждая из которых вносит свой вклад в функцию. Чтобы избежать проблем, возникающих с чрезвычайно сложными объектами, такими как глаза, жуки или другие многоклеточные биологические системы, я начну с простого механического примера: обычной мышеловки.
РИСУНОК 2–2

Домашняя мышеловка
Задача мышеловки – обездвижить мышь, чтобы она не могла прогрызать мешки с мукой или электрические провода, мусорить в углах и т. п. Мышеловки, которыми пользуется моя семья, состоят из нескольких частей (рис. 2–2):
1. Плоская деревянная платформа-основание;
2. Металлический молоточек, который должен раздавить мышку;
3. Пружина с удлиненными концами, которая давит на платформу и молоток, когда ловушка заряжена;
4. Чувствительная защелка, которая разжимается при малейшем нажатии;
5. Металлический стержень, который соединяется с защелкой и удерживает молоток, когда ловушка готова к действию.
Еще есть разные скобы, которые держат всю систему.
Второй шаг для того, чтобы определить, является ли система неуменьшаемо сложной, – ответ на вопрос, все ли ее компоненты необходимы для функционирования. В моем примере очевидный ответ – да. Предположим, что как-то вечером за чтением вы слышите топот ножек в кладовой и подходите к ящику с хозяйственными принадлежностями, чтобы вытащить мышеловку. К сожалению, из-за производственного брака в мышеловке нет одной из перечисленных выше частей. Без какой составляющей все равно получится поймать мышь? На деревянном основании крепятся все остальные компоненты. Без молоточка мышь может хоть всю ночь плясать на этой платформе – ударить-то ее нечем. Без пружины молоточек и платформа были бы абсолютно безопасны для грызуна. Без защелки или удерживающего металлического стержня пружина только щелкала бы по молоточку, и чтобы использовать такую ловушку, вам пришлось бы гоняться за мышью с ловушкой наперевес.
Чтобы в полной мере проникнуться выводом о том, что система неуменьшаемо сложна и, следовательно, не имеет функциональных предшественников, нам нужно различать физического и концептуального предшественника. Описанная выше ловушка – не единственная система, которая может обездвижить мышь. Временами моя семья использует клеевую ловушку. Теоретически можно еще приспособить коробку – держать ее открытой с помощью палки, а в нужный момент эту палку убрать. А еще можно палить в мышь из пневматического ружья. Однако все эти способы не являются физическими предшественниками стандартной мышеловки, поскольку их нельзя преобразовать – шаг за шагом по Дарвину – в ловушку с платформой-основанием, молоточком, пружиной, защелкой и удерживающим стержнем.
Чтобы прояснить этот момент, рассмотрим следующую последовательность: скейтборд, игрушечная тележка, велосипед, мотоцикл, автомобиль, самолет, реактивный самолет, космический челнок. Такое развитие выглядит естественным – и потому, что все объекты в этом списке можно использовать для транспортировки, и потому, что они выстроены по мере возрастания сложности. Их можно концептуально связать и объединить в единый континуум. Но является ли, скажем, велосипед физическим (и потенциально дарвиновским) предшественником мотоцикла? Нет, это лишь концептуальный предшественник. Ни один мотоцикл в истории, даже первый, не появился в результате пошаговой модификации велосипеда. Можно запросто представить, как какой-нибудь подросток берет в субботний день старый велосипед, старый двигатель от газонокосилки и всякие запчасти – и через пару часов у него готов работающий мотоцикл. Но это лишь показывает, что люди могут проектировать неуменьшаемо сложные системы, о чем мы и так знаем. А чтобы велосипед можно было назвать предшественником в дарвиновском смысле, мы должны показать, что путем «многочисленных последовательных слабых модификаций» из него получится мотоцикл.
Итак, попытаемся превратить велосипед в мотоцикл путем постепенного накопления мутаций. Предположим, что фабрика производила велосипеды, но иногда при производстве происходила ошибка. Предположим далее, что если ошибка привела к улучшению велосипеда, то друзья и соседи счастливчика потребовали бы похожие велосипеды, а фабрика перенастроила бы производство, чтобы сделать мутацию постоянной чертой. Таким образом, успешные механические мутации, как и биологические, будут воспроизводиться и распространяться. Однако, если придерживаться биологической аналогии, каждое изменение может быть незначительной модификацией, дублированием или перестановкой уже существующего компонента, и это изменение должно улучшить функцию велосипеда. То есть если фабрика по ошибке увеличила размер гайки или уменьшила диаметр болта, или добавила дополнительное колесо на переднюю ось, или убрала заднюю шину, или установила педаль на руль, или добавила спицы, и если любое из этих незначительных изменений улучшило бы езду на велосипеде, то улучшение было бы немедленно замечено покупателями – и мутировавшие велосипеды, как и полагается по Дарвину, заняли бы лидирующие позиции на рынке.
Учитывая эти условия, получится ли у нас превратить велосипед в мотоцикл? Можно двигаться в нужном направлении, делая потихоньку сиденье удобнее, колеса больше и даже (на случай, если наши клиенты предпочитают «байкерский» вид) имитируя различными способами общую форму мотоцикла. Но ему нужен источник топлива, а у велосипеда нет ничего, что можно было бы модифицировать и превратить в бензобак. А какую часть велосипеда можно было бы скопировать, чтобы начать конструировать двигатель? Даже если бы по счастливой случайности двигатель газонокосилки с соседней фабрики попал на велосипедную, его пришлось бы установить на велосипед и правильно подключить к приводной цепи. Как это пошагово сделать из деталей велосипеда? Фабрике, которая производит велосипеды, попросту не удалось бы сделать мотоцикл путем естественного отбора на основе вариаций – «многочисленных последовательных слабых модификаций», – и на самом деле в истории нет примера такого сложного изменения продукта.
Таким образом, велосипед может быть концептуальным, но не физическим предшественником мотоцикла. А эволюция по Дарвину требует именно физического предшественника.
МИНИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
До сих пор мы рассматривали вопрос о неуменьшаемой сложности как вызов пошаговой эволюции. Но с теорией Дарвина есть и другие проблемы. Приведенный выше список факторов, которые делают мышеловку неуменьшаемо сложной, был на самом деле слишком щедрым, потому что почти любое устройство из пяти компонентов стандартной мышеловки все же не будет работать. Например, если основание сделать из бумаги, ловушка развалится. Слишком тяжелый молоточек сломает пружину. Слишком слабая пружина не сдвинет молоточек. Слишком короткий удерживающий стержень не достанет до защелки. Слишком большая защелка не сработает в нужный момент. Простой список компонентов мышеловки необходим, но недостаточен для создания функционирующего устройства.
Чтобы стать кандидатом на естественный отбор, система должна обладать минимальной функцией: способностью выполнять задачу в физически реальных условиях. Мышеловка, сделанная из неподходящих материалов, не будет отвечать критерию минимальной функции, но бесполезными могут оказаться и сложные машины, которые вполне справляются со своими задачами. Пример: предположим, что разработан и поступил в продажу первый в мире подвесной лодочный мотор. Мотор работает исправно: сжигает бензин с контролируемой скоростью, передает усилие на ось и вращает винт – но со скоростью всего один оборот в час. Это впечатляющее технологическое достижение, ведь само по себе сжигание бензина в баке рядом с винтом не заставляет его вращаться. Тем не менее мало кто купил бы такое устройство, потому что оно неспособно работать на соответствующем своему назначению уровне.
Есть две причины, по которым производительность оказывается несоответствующей. Первая – устройство не справляется с поставленной задачей. Пара, которая ловит рыбу на середине озера в лодке с медленно вращающимся винтом, не доберется до причала: случайные течения воды и ветер собьют лодку с курса. Вторая – меньшая эффективность по сравнению с более простыми средствами. Никто не станет использовать неэффективный подвесной мотор, если можно обойтись парусом.
В отличие от неуменьшаемой сложности (когда можно перечислить дискретные части), минимальную функцию иногда трудно определить. Если для подвесного мотора недостаточно одного оборота в час, то сколько нужно – сто? Или тысячи? Тем не менее минимальная функция имеет решающее значение для эволюции биологических структур. Например, какое минимальное количество гидрохинона может почувствовать хищник? Насколько чувствительным для него будет повышение температуры раствора? Если хищник не заметит ни крошечного количества гидрохинона, ни небольшого изменения температуры, то наша докинзианская история об эволюции жука-бомбардира будет такой же сказкой, как стишок о корове, которая – ну и ну! – перепрыгнула Луну. Неуменьшаемо сложные системы – неприятное препятствие для дарвиновской эволюции, но необходимость минимальной функции значительно усугубляет проблему.
БОЛТЫ И ГАЙКИ
Биохимия показала, что любой биологический аппарат, состоящий более чем из одной клетки (например, орган или ткань), непременно является хитросплетением множества различных идентифицируемых систем ужасающей сложности. Самая «простая» самодостаточная, воспроизводящаяся клетка способна производить тысячи различных белков и других молекул в разное время и при разных условиях. Синтез, разрушение, выработка энергии, репликация, поддержание архитектуры клетки, подвижность, регуляция, восстановление, коммуникация – все это происходит практически в каждой клетке и требует взаимодействия множества частей. Каждая клетка – целый клубок систем, и потому, задаваясь вопросом: «Могли ли многоклеточные структуры развиваться шаг за шагом дарвиновским путем?», мы повторяем ошибку Фрэнсиса Хитчинга. С тем же успехом можно было бы спросить, могла ли велосипедная фабрика эволюционировать в мотоциклетную! Эволюция происходит не на уровне фабрики, а на уровне болтов и гаек.
Аргументы Докинза и Хитчинга не работают, потому что они не обсуждают то, что содержится в системах, о которых они спорят. Чрезвычайно сложен не только глаз, но и «светочувствительное пятно», с которого Докинз начинает свой рассказ, – оно само по себе является многоклеточным органом, по сравнению с каждой клеткой которого «сложное устройство» мотоцикла или телевизора кажется элементарным. От множества взаимодействующих компонентов зависит не только защитный аппарат жука-бомбардира, но и клетки, вырабатывающие гидрохинон и перекись водорода. Клетки, выделяющие каталазу, тоже очень сложны, а сфинктерная мышца, отделяющая собирательную полость от реакционной камеры, – это система систем. Из-за этого аргументы Хитчинга о великолепной сложности жука-бомбардира легко размываются до неузнаваемости, а ответ Докинза удовлетворяет нас лишь до тех пор, пока мы не просим уточнить детали.
В отличие от анализа биологических органов, анализ простых механических объектов относительно легок. Мы коротко показали, что мышеловка – неуменьшаемо сложный объект, и поэтому можем окончательно заявить то, что мы и так знали: мышеловка сделана как цельная система. Мы знали, что мотоцикл появился не в результате полуслучайных и небольших последовательных усовершенствований велосипеда, а быстрый анализ показал, что это невозможно. Механические объекты не могут размножаться и мутировать как биологические системы, но гипотеза о сопоставимых событиях на воображаемой фабрике показывает, что мутация и размножение не являются главными препятствиями для эволюции механических объектов. Проблема их эволюции в дарвиновском стиле – требования, предъявляемые самой структурой и функцией.
Механизмы относительно легко анализировать, потому что их функции и все их части, каждая гайка и болт, хорошо известны, их можно перечислить. После этого легко определить, требуется ли для функционирования системы какая-либо деталь. Если требуется несколько тесно связанных между собой частей, значит, система неуменьшаемо сложна, отсюда следует вывод, что она была создана как единое целое. В принципе, биологические системы тоже можно анализировать подобным образом, но только если можно перечислить все части системы и определить их функцию.
Современная биохимия в последние десятилетия определила все или большую часть компонентов ряда биохимических систем. О некоторых из них я расскажу в следующих пяти главах. В главе 3 я рассмотрю удивительную структуру под названием «ресничка», которую некоторые клетки используют для плавания. В следующей главе я расскажу о том, что происходит, когда вы режете палец, и покажу, что процесс свертывания крови не так прост, как кажется. Затем я рассмотрю, как клетки переносят материалы из одного субклеточного отсека в другой – и сталкиваются с теми же проблемами, что и Federal Express при доставке посылок. В главе 6 я расскажу об искусстве самообороны – разумеется, на клеточном уровне. Последний биохимический пример появится в главе 7: я рассмотрю сложную систему, которая требуется клетке, чтобы произвести один из своих «строительных блоков». В каждой главе я разберу, могла ли обсуждаемая система развиваться постепенно, дарвиновским путем, и приведу взгляды научного сообщества на возможную эволюцию этих систем.
Я постарался сделать эти пять «примеров» максимально приятными и доступными для чтения. Я не выношу на обсуждение никаких эзотерических концепций – но, как я уже говорил в предисловии, чтобы оценить сложность, ее нужно проверить. Системы, которые я обсуждаю, сложны, потому что содержат множество компонентов. Однако в конце книги не будет итогового экзамена. Подробные описания нужны для того, чтобы дать вам представление о сложности системы, а не для проверки вашей памяти. Кто-то захочет прочесть книгу до конца, а кто-то просто пролистает ее и отложит до лучших времен.
Я заранее прошу прощения за сложность материала – она обусловлена тем, что я хочу донести до читателя. Ричард Докинз может бесконечно упрощать, потому что хочет убедить своих читателей в том, что дарвиновская эволюция – это «легкая прогулка». Однако для того, чтобы понять препятствия, стоящие на пути эволюции, мы должны стиснуть зубы и быть готовыми к сложности.
Часть 2
Что же в черном ящике?
Глава 3
Лодочка моя, плыви
БЕЛКИ
Итак, современная биохимия показала, что клеткой управляют машины – это в буквальном смысле слова машины, только молекулярные. Как и те машины, которые сооружает человек – мышеловки, велосипеды, космические шаттлы, – молекулярные машины бывают как простыми, так и чрезвычайно сложными. Есть механические силовые машины, как в мышцах. Есть электронные – как в нервах. Есть машины, работающие на солнечной энергии, как те, что участвуют в процессе фотосинтеза. Конечно, молекулярные машины состоят в основном из белков, а не из металла и пластика. В этой главе я расскажу о молекулярных машинах, благодаря которым клетки могут плавать, и вы увидите, что требуется для работы этих машин.
Но начнем с некоторых необходимых деталей. Чтобы понять молекулярную основу жизни, необходимо иметь представление о том, как работают белки. Тем, кто хочет знать все подробности – как создаются белки, как они устроены, чтобы настолько эффективно работать и т. д., – лучше взять в библиотеке учебник по биохимии. Для тех, кто хочет знать некоторые детали – например, как выглядят аминокислоты и какие уровни выделяют в структуре белков, – я включил в книгу приложение, посвященное белкам и нуклеиновым кислотам. Здесь мы ограничимся лишь обзором этих замечательных веществ.
У большинства людей белки ассоциируются с едой, но на самом деле белки играют весьма активную роль в жизни животных и растений. Белки – это машины в живых тканях, они строят структуры и осуществляют химические реакции, необходимые для жизни. Например, первый шаг по захвату энергии сахара и превращению ее в форму, которую может использовать организм, выполняется катализирующим белком (также известным как фермент) гексокиназой, кожа состоит в основном из белка под названием коллаген, а когда свет попадает на сетчатку глаза, белок под названием родопсин инициирует зрение. Даже на этом ограниченном количестве примеров видно, что белки удивительно разнообразны. Тем не менее у каждого белка есть только одно или несколько применений: родопсин не может формировать кожу, а коллаген бесполезен для зрения. Поэтому типичная клетка содержит тысячи и тысячи различных видов белков для выполнения многочисленных жизненных задач.
Белки создаются путем химического соединения аминокислот в цепь. В белковой цепи обычно насчитывается 50–1000 аминокислотных звеньев. Каждая позиция в цепи занята одной из 20 различных аминокислот. В этом они похожи на слова, которые тоже могут быть разной длины, но состоят из одних и тех же 26 букв37. На самом деле биохимики часто обозначают каждую аминокислоту однобуквенной аббревиатурой: G – глицин, S – серин, H – гистидин и т. д. Каждый вид аминокислот имеет разную форму и разные химические свойства. Например, W – большая, а A – маленькая, R означает положительный заряд, а E – отрицательный, S растворяется в воде, I – в масле и т. д.
Слово «цепочка», вероятно, ассоциируется у вас с чем-то гибким, не имеющим формы как таковой. Но цепочки аминокислот – то есть белки – не такие. Внутри клетки белки укладываются в совершенно определенные структуры, и эти структуры могут быть совершенно разные для разных типов белков. Фолдинг (укладывание) белка происходит автоматически, когда, скажем, положительно заряженная аминокислота притягивает отрицательно заряженную, гидрофобные аминокислоты, «предпочитающие жир», собираются вместе, чтобы вытолкнуть воду, крупные аминокислоты выталкиваются из маленьких пространств и т. д. Две разные последовательности аминокислот (то есть два разных белка) могут укладываться в структуры, столь же специфичные и непохожие друг на друга, как разводной ключ и лобзик.
Именно форма уложенного белка и точное расположение различных аминокислотных групп позволяют белку выполнять его задачи (рис. 3–1). Например, если задача одного белка – определенным образом связываться со вторым белком, то их две формы должны подходить друг другу, как рука к перчатке. Если на первом белке есть положительно заряженная аминокислота, то на втором белке лучше иметь отрицательно заряженную аминокислоту, иначе они не будут держаться вместе. Если задача белка – катализировать химическую реакцию, то форма фермента обычно соответствует форме химического вещества, которое является его мишенью. Когда фермент соединяется, его аминокислоты расположены именно так, чтобы вызвать химическую реакцию. Если гаечный ключ или лобзик сильно искривлены, ими нельзя пользоваться – и точно так же, если форма белка искажена, он не справляется со своей задачей.
Современная биохимия зародилась 40 лет назад, когда наука стала изучать, как выглядят белки. С тех пор мы много узнали о том, как те или иные белки выполняют те или иные задачи. Мы выяснили, что для работы клетки требуются команды белков, каждый из которых выполняет лишь часть большой задачи. Для простоты в этой книге я сосредоточусь на командах белков. А теперь давайте поплаваем.
ПЛАВАНИЕ
Предположим, летним днем вы отправились в ближайший бассейн, чтобы немного потренироваться. Намазавшись кремом для загара, вы лежите на полотенце, читая свежий номер журнала Nucleic Acids Research, и ждете, когда взрослым можно будет попасть в воду. Наконец раздается свисток, и энергичная детвора освобождает бассейн. Вы осторожно пробуете воду пальцами ног, а затем вы с большим усилием воли опускаетесь в эту удивительно холодную воду. Вы не собираетесь падать «бомбочкой» или прыгать с трамплина, вы не будете играть в водный волейбол с молодежью. Вы хотите просто поплавать.
Оттолкнувшись от борта, вы поднимаете правую руку над головой и погружаете ее в воду, выполняя один гребок. Во время гребка нервные импульсы передаются от мозга к мышцам руки, побуждая их сокращаться в определенном порядке. Сокращающиеся мышцы передвигают кости в пространстве, заставляя плечевую кость подниматься и поворачиваться.
Тем временем определенные мышцы сжимают кости пальцев вместе, так что рука образует замкнутую чашу. Последовательные нервные импульсы заставляют другие мышцы различным образом расслабляться и сокращаться, тянуть за собой лучевую и локтевую кости и направлять руку вниз, в воду. Усилие руки и кисти движет вас вперед.
Примерно на середине описанного цикла начинается аналогичный цикл, на этот раз с костями и мышцами левой руки. Одновременно нервные импульсы поступают в мышцы ног, заставляя их ритмично сокращаться, расслабляться и тянуть за собой кости ног вверх и вниз. Однако, рассекая воду со скоростью 3 км/ч, вы замечаете, что вам становится трудно думать, в легких ощущается жжение, в глазах темнеет. Ах да – нужно же еще и дышать. Про президента Форда говорили, что он не мог одновременно ходить и жевать резинку, а вам трудно координировать поворот головы к поверхности воды и обратно с другими движениями, необходимыми для плавания. Без кислорода, необходимого для метаболизма топлива, ваш мозг начинает отключаться, не позволяя нервным импульсам доходить до отдаленных участков тела.
Чтобы не потерять сознание и не унижаться от того, что вас выручает спасатель вдвое младше вас, вы останавливаетесь, встаете в воде (глубиной менее 1,5 м) и замечаете, что до бортика всего метров шесть. Чтобы решить проблему с дыханием, вы решаете плыть на спине. В плавании на спине задействованы почти те же мышцы, что и в плавании вольным стилем, так что вы можете дышать, не координируя работу мышц шеи со всеми остальными мышцами. Но теперь вы не видите, куда плывете. Вы сбиваетесь с курса и получаете по голове волейбольным мячом.
РИСУНОК 3–1

Сверху: когда два белка связываются особым образом, их формы точно соответствуют друг другу. Снизу: чтобы катализировать химическую реакцию, фермент располагает группы рядом с химическим веществом, которое он связывает. Ножницы – это группы белков, которые будут химически разрезать молекулу, изображенную светло-серым
Вы решаете просто поупражнять ноги в глубокой части бассейна подальше от извиняющихся волейболистов. Ходьба в воде отлично задействует мышцы ног, это дает вам необходимую физическую нагрузку и позволяет легко дышать и хорошо видеть – но через несколько минут ноги начинает сводить судорогами. Топлива, хранимого внутри мышц, хватает лишь на короткие всплески активности, после которых вам нужны длительные периоды отдыха. От слишком продолжительной тренировки топливо быстро истощается и мышцы прекращают эффективно функционировать. Нервные импульсы судорожно пытаются спровоцировать движения, необходимые для плавания, но мышцы не работают и ваши ноги бесполезны, как мышеловка со сломанной пружиной.
Вы расслабляетесь и остаетесь неподвижными. К счастью, плотность большей части вашего тела в районе пояса ниже, чем у воды, и она держит вас на плаву. После минуты или двух покачивания в воде сведенные судорогой мышцы расслабляются. Остаток времени вы проводите, безмятежно плавая в дальней части бассейна. Это не дает особой физической нагрузки, но зато доставляет удовольствие – до тех пор пока не раздастся свисток и в бассейн не бросятся дети.
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО
Сценарий с ближайшим бассейном иллюстрирует требования к плаванию. Он также показывает, что эффективность можно повысить, добавив к основному оборудованию для плавания вспомогательные системы. В последнем сценарии для плавания нужно только, чтобы объект был менее плотным, чем вода, активность не требуется. Способность держаться на воде, как поплавок, – удерживать часть тела над водой без активных усилий, – конечно, полезна. Однако, поскольку плавающий просто дрейфует по течению, способность держаться на воде – это не то же, что умение плавать.
Система определения направления (например, зрение) также полезна для плавания, но и это не обеспечивает умения плавать. Можно некоторое время плыть на спине и при этом продвигаться в некотором направлении – но, не контролируя окружающую обстановку, можно попасть в какую-нибудь передрягу. Но умением плавать могут обладать и зрячие, и слепые.
Плавание, несомненно, требует энергии. Скованные судорогой мышцы немедленно приводят систему в негодность. Но вы успели проплыть некоторое расстояние до того, как начали задыхаться, а затем ступали по дну, прежде чем у вас свело ноги. Размер и эффективность системы топливных запасов, безусловно, влияют на расстояние, которое может преодолеть пловец, но не являются частью самой системы плавания.
Теперь рассмотрим механические требования к плаванию. В воде вы делали гребки руками и ногами, тем самым перемещая свое тело вперед. Без конечностей или их заменителя активное плавание было бы совершенно невозможно. Таким образом, мы можем сделать вывод, что одно из требований для плавания – весло. Другое требование – наличие двигателя или источника энергии, топлива которого хватит как минимум на несколько циклов. На уровне органов у человека такими двигателями являются мышцы ног и рук, которые попеременно сокращаются и расслабляются. Если мышца парализована, она не может служить мотором, а значит, плавание невозможно. Последнее требование – соединение двигателя с гребущей частью. У человека это мышцы, прикрепленные к определенным участкам костей. Если мышца оторвана от кости, она может сокращаться, но она не может двигать кость, а значит, плавания не происходит.