SPQR. История Древнего Рима
Tekst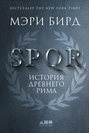


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 720 str. 155 ilustracji
- Kategoria: zagraniczna literatura edukacyjna, historia starożytnego świata
История и миф
Ромул оставил следы и в римском ландшафте. Во времена Цицерона можно было не только посетить построенный Ромулом храм Юпитера Статора, но еще и зайти в пещеру, где, предположительно, волчица ухаживала за близнецами, и осмотреть на Форуме дерево, пересаженное с того места, куда корзину с малышами выбросила на берег река. Можно было даже ознакомиться с собственным домом Ромула, маленькой хижиной из дерева и соломы, где, считалось, проживал основатель города на Палатинском холме. Это был наглядный островок древнего примитивного городка посреди разрастающейся метрополии. Вероятно, хижина не была подлинной – такую догадку, например, высказал один посетитель в конце I в. до н. э. «Они ничего на добавляют к ней ради большего почитания, – замечал он, – однако, если какая-нибудь часть приходит в негодность, в силу плохой погоды или возраста, они приводят ее в порядок и реставрируют как можно ближе к изначальному виду». Неудивительно, что никаких археологических следов домик не оставил, учитывая, какую шаткую конструкцию он из себя представлял. В том или ином виде этот исторический памятник основания города сохранялся по крайней мере до IV в., когда он еще упоминался в списке достопримечательностей Рима.
Эти физические «останки» – храм, священная смоковница и старательно залатанная хижина – были неотъемлемой частью образа Ромула как исторического персонажа. Как мы видели, римские авторы не были настолько доверчивы, чтобы не замечать сомнительные детали традиционных сюжетов, продолжая при этом их пересказывать (о роли волчицы, например, или о божественном происхождении и т. д.). Но в одном они были едины: Ромул, вне сомнений, существовал и успел принять основополагающие решения, предопределившие дальнейшую судьбу Рима: выбрал правильное место для города и собственноручно учредил многие важнейшие институты. По некоторым данным, сенат был детищем Ромула, также он основал ритуал «триумфа» – победного шествия после самой значительной (или самой кровавой) битвы. В конце I в. до н. э. решили собрать имена всех полководцев, устраивавших триумф, и запечатлеть их на мраморных плитах. Ромул возглавил мемориальный список: «Царь Ромул, сын Марса, – гласит надпись, – справил триумф над ценинцами 1 марта». Так была увековечена быстрая победа над близлежащим латинским городом, девушки которого оказались среди похищенных. Запись не допускает и тени сомнения в божественном происхождении первого царя.
Ученые Рима изрядно постарались привести в порядок хронологию первых шагов молодого государства и его лидера. Одним из самых животрепещущих вопросов времен Цицерона была точная дата возникновения города. Каков точный возраст Рима? Лучшие умы изобретательно разработали систему отсчета от дат, которые они твердо знали, в глубь веков, к тем датам, точность которых была под вопросом, и постарались синхронизировать события Древнего Рима с известной греческой хронологией. В частности, они постарались найти соответствие их истории с регулярными четырехгодичными циклами Олимпийских игр. Эти игры составляли неизменную и достоверную временную шкалу, хотя, как стало известно в последнее время, здесь тоже не обошлось без более ранних хитроумных спекуляций. Это очень запутанная и спорная тема. Тем не менее различные подсчеты удалось совместить в точке, соответствующей середине того века, который мы называем VIII в. до н. э., коль скоро ученые пришли к заключению, что греческая и римская эпохи начались почти одновременно. Каноническая датировка, применяемая во многих современных учебниках, восходит к научному трактату «Хроника», автором которого является не кто иной, как Аттик, друг Цицерона и адресат его писем. Сам труд до нас не дошел, но считается, что он зафиксировал время основания Рима третьим годом одиннадцатой Олимпиады, т. е. 753 г. до н. э. Другие вычисления сузили этот промежуток времени до конкретного дня – 21 апреля, эта дата считается днем рождения Рима и до сих пор отмечается несколько вульгарным костюмированным парадом и игровыми гладиаторскими представлениями.
Границу между мифом и историей всегда было трудно провести (стоит вспомнить короля Артура или Покахонтас), а в римской культуре, как мы увидим далее, эта граница особенно размыта. Какими историческими смыслами ни нагружали проницательные римляне свои повести об основании Рима, у нас есть все основания считать их чистым мифом с современной точки зрения. Прежде всего, не было единого момента основания города. Не так уж много городов появилось в одночасье и по воле единственного человека. Город возникает обычно в результате постепенных изменений в плотности населения, типах поселений, социальной организации и понимании своей идентичности. Большинство «оснований» является продуктом более поздних реконструкций: в далеком прошлом воображение рисует тот же самый город в виде примитивной или уменьшенной модели, микрокосма. Само имя Ромул выдает некоторые секреты «кухни». Несмотря на общепринятую точку зрения, будто отец-основатель дал свое имя новому городу, нам сейчас известна противоположная позиция: Ромул образовано от имени Рома, латинского названия города Рим. Ромул – это просто архетипичный «мистер Рим».
Кроме того, в распоряжении писателей и ученых I в. до н. э., завещавших нам свои взгляды на происхождение Рима, было ненамного больше свидетельств о первых этапах его истории, чем у современных авторов, и даже в некоторых областях было меньше материала. Никакими документами или архивами они не располагали. Старинные надписи на камнях, какими бы ценными они ни были, оказывались не столь древними, как им представлялось, и, как мы поймем к концу этой главы, эти авторы часто неправильно трактовали ранние латинские тексты. Правда, им были доступны некоторые сочинения, которые до нас не дошли. Однако самые древние из них были составлены примерно в 200 г. до н. э., что сохраняет великую пропасть, отделявшую их от времени основания города. Чтобы «замостить» эту пропасть, нужен раствор, замешанный на разных историях, песнях, народных драмах, с добавлением сплава часто противоречивых устных повествований, изменяющихся от пересказа к пересказу в зависимости от обстоятельств и аудитории. Есть несколько беглых упоминаний о Ромуле в далеком IV в. до н. э., но далее в древность, если не считать скульптуры бронзовой волчицы, его следы теряются.

10. Найденное в Этрурии зеркало с гравюрой на обратной стороне, возможно, иллюстрирующей сцену вскармливания близнецов волчицей. Если это так, то изготовленное в IV в. до н. э. зеркало является одним из самых ранних изображений сюжета. Однако скептически настроенные ученые склонны видеть здесь сцену из этрусского мифа или пару значительно более непонятных и мистических римских божеств – ларов (Lares Praestites)
Можно, конечно, посмотреть на эти рассказы с другой стороны. Именно мифичность, а не конкретная историчность позволила сюжету в сжатой форме отразить центральные вопросы культуры Древнего Рима, помогая разглядеть особенности римской истории в широком смысле. Римляне напрямую не унаследовали, что бы они там ни думали, ценности и заботы первостроителя своего государства. Как раз наоборот: пересказывая и переписывая легенду из века в век, они сформировали образ своего основателя как мощный символ собственных предпочтений, идеологических представлений, поводов для споров и опасений. Таким образом, если вернуться к Горацию, не было такого проклятия и предопределенности от рождения, чтобы римляне навечно погрязли в гражданских войнах, а скорее наоборот: они спроецировали свою одержимость бороться за власть в бесконечных кровавых внутренних конфликтах на образ отца-основателя.
Даже когда повествование приобрело устоявшуюся литературную форму, авторы тем не менее могли редактировать его, приспосабливая к своим замыслам. Мы уже видели, как Цицерон завуалировал факт гибели Рема, а Эгнатий отрицал его вовсе. Изображение сцены гибели Ромула у Ливия дает нам представление о том, как история основания Рима может отражать актуальные для рассказчика события и представления. Царь пробыл на троне более 30 лет, пишет Ливий, и вдруг налетела буря, его накрыло облаком, и он исчез. Скорбящие римляне вскоре решили, что Ромул был похищен, чтобы примкнуть к богам. Римская политеистическая религия допускала в некоторых случаях переход границы между человеческим и божественным существованием (хотя нам это может показаться нелепым). Ливий, правда, учитывает и другую версию: царь был зарезан сенаторами. Ливий не был автором ни одного из этих вариантов легенды. Ранее Цицерон описал обожествление Ромула, правда, не без скепсиса. А другому чрезмерно амбициозному политику в 60-е гг. до н. э. угрожали «участью Ромула», и это, понятно, не подразумевало превращение в бога. Ливий писал свой труд через несколько десятилетий после убийства Цезаря, который был зарезан сенаторами и получил впоследствии статус бога (с возведением храма в его честь на Форуме). Этот многозначительный текст о Ромуле не мог не содержать параллелей с судьбой Цезаря.
Эней и другие
История про Ромула и Рема и интригует, и ставит вопросы, и обозначает ключевые точки римской цивилизации. Так, по крайней мере, ее воспринимала элита. Если судить по оформлению монет или по темам поп-культуры, то широкое распространение этих сюжетов становится очевидным, несмотря на то что голодным крестьянам недосуг было разбираться в тонкостях похищения сабинянок. Но и без того запутанная картина основания Рима братьями-близнецами осложняется наличием альтернативных версий зарождения великого города. Ромул и Рем были не единственными претендентами на роль основателей. У главной темы имелись и побочные вариации, которые могут показаться весьма своеобразными. По одной греческой легенде, на сцену выходит знаменитый Одиссей, герой одноименной эпопеи Гомера, сын которого от волшебницы Цирцеи по имени Ром стал настоящим отцом-основателем Рима. Предполагалось, что остров Цирцеи находился недалеко от берегов Италии. Это была искусно придуманная, хотя и маловероятная, версия, представляющая Рим как греческую колонию с соответствующей родословной.
Не меньший след в истории и литературе Рима оставила легенда о троянском герое Энее, покинувшем Трою после войны с греками, описанной в «Илиаде» Гомера. Эней вынес своего отца и сына из пожара и отплыл к берегам Италии, где судьба определила ему возродить Трою на итальянской почве. Ему удалось сохранить некоторые троянские традиции и спасти талисманы разрушенного города.
В этой легенде не меньше загадок, проблем и неопределенностей, чем в истории с Ромулом, не менее остро стоят вопросы, где, когда и почему возник этот миф. Ситуация кажется еще более запутанной, несмотря на изобилие деталей в великой поэме Вергилия «Энеида», составленной из 12 книг. Поэма, написанная во время правления первого римского императора Августа, стала одним из самых читаемых литературных произведений во все времена. Это книга о судьбе именно Энея. Она подарила западному миру много замечательных художественных и литературных образов и сюжетов, включая историю трагической любви Энея и Дидоны, царицы Карфагена; по пути из Трои (на побережье современной Турции) в Италию волны выбросили Энея в Северной Африке. Когда Эней, внимая зову судьбы, покинул Дидону, чтобы доплыть до Италии, царица покончила с собой, взойдя на костер. «Помни меня! Помни меня!» – звучит ее запоминающаяся ария в опере XVII в. Генри Перселла. Проблема в том, что не всегда можно легко определить, какой сюжетной линией мы обязаны Вергилию (во всяком случае, свидание с Дидоной придумано им), а какая часть унаследована от более ранних традиционных сказаний.
Фигура Энея как основателя Рима, безусловно, появилась в литературе и мифе задолго до I в. до н. э. Есть случайные упоминания о нем в этой роли у некоторых греческих авторов V в. до н. э. Известно, что во II в. до н. э. посольство с греческого острова Делос для заключения союза с Римом в своей хвалебной речи не упустило возможность напомнить римлянам, что Эней останавливался на их острове по пути на запад. Историк Дионисий Галикарнасский был убежден, что видел могилу Энея или, по крайней мере, памятник ему в городе Лавиниуме, недалеко от Рима, который, как он отмечал, «очень стоит посмотреть». В народе было распространено представление, что в храме Весты на римском Форуме среди прочих драгоценностей находилась статуя Афины Паллады, которую привез Эней из Рима. Здесь кстати будет заметить, что в том самом храме служила, по легенде о Ромуле, весталка Рея Сильвия: она должна была поддерживать вечный священный огонь. Во всяком случае, так говорится в одном римском сказании. По всему эллинскому миру встречались конкурирующие между собой хранители знаменитого кумира богини, которые утверждали, что подлинник находится именно у них.

11. Мозаика IV в. на полу бани в старинной римской вилле в Лоу-Хэме (Южная Англия) изображает сцены из «Энеиды» Вергилия, например прибытие Энея в Карфаген, Дидона и Эней на охоте или любовь карфагенской царицы и троянского героя, изображенная здесь предельно лаконично
Само собой разумеется, что история Энея является не меньшим мифом, чем история Ромула. Однако многие римские ученые ломали головы над сопоставлением этих двух легенд «основания» и тратили силы на совмещение их в историческом контексте. Был ли Ромул сыном Энея или, может быть, его внуком? И если Ромул основал Рим, то как Эней мог сделать это в первый раз? Основная неприятность была связана с большим временн́ым перерывом между VIII в. до н. э. – принятой у римлян датой возникновения города – и XII в. до н. э., к которому обычно привязывается падение Трои (если считать это историческим событием). К I в. до н. э. удалось привести все это в некоторое соответствие при помощи мудреного генеалогического древа, соединяющего Энея и Ромула, с «правильными» датами: Эней виделся основателем не Рима, а Лавиниума; его сын Асканий – основателем Альбы Лонги, города, откуда впоследствии изгнали Ромула и Рема, после чего они основали Рим. Для замощения пропасти во времени между Асканием и 753 г. до н. э. была выведена на историческую сцену непонятная и даже по римским стандартам нереалистичная династия царей Альбы. Это была версия, которой придерживался Тит Ливий.
Ядро всей легенды про Энея поддерживает или даже усиливает идею Ромула о Риме как пристанища для беглецов. Если Ромул призывал иноземцев в свой новый город, то Эней и его друзья сами были пришельцами. Это парадокс римской национальной идентичности. Подобное начало государства составляет разительный контраст со многими легендами об основании древних греческих городов, например Афин, появление которых неразрывно связано с родной землей. В то же время различные версии, описывающие рождение Рима, всячески подчеркивают роль иностранцев. В одном из эпизодов «Энеиды» герой посещает место будущего города и застает там поселение ранних предков римлян. Кто же они? Это некий народ с царем Эвандром во главе, выходцем из Аркадии на греческом Пелопоннесе. Идея все время одна: какой миф ни возьми, первые жители Рима всегда окажутся родом из других мест.
Идея сборища скитальцев наиболее ярко проявилась в рассуждениях Дионисия Галикарнасского об этимологии названия итальянских племен. Греческим и римским интеллектуалам всегда нравилось разбираться в словообразовании, что, им казалось, давало ключ к пониманию не только происхождения слова, но и его изначального смысла. Им иногда удавалось докопаться до истины, но часто их уводили в сторону фантастические ошибки. Эти заблуждения порой сами за себя говорят, как и в этом случае. В начале своего трактата Дионисий рассказывает еще об одном более примитивном племени, которое населяло территорию будущего Рима, – об «аборигенах». Происхождение этого слова, казалось, ясно как божий день: речь идет о людях, которые жили на этом месте «изначально» – ab origine. Надо отдать ему должное: Дионисий рассматривает эту версию как возможную, но предпочтения его на стороне предположения, что название племени получилось не от латинского origo, но от errare – «бродить, блуждать», и, соответственно, слово звучало иначе: «аберригины». Эти люди, пишет Дионисий, были «бездомными скитальцами, не проживавшими ни в какой земле постоянно, как на родине».[10] Странная на первый взгляд позиция многих серьезных ученых мужей, отвернувшихся от очевидной правдивой трактовки в пользу рискованной затеи объяснить название «аборигены» глаголом «блуждать» через сомнительное изменение написания слова, связана, безусловно, не с ограниченностью их умственных способностей. Здесь очевидна укорененность в их сознании представления о том, что Рим всегда был текучим образованием, живым потоком, и что римляне всегда были «в движении».
Раскапывая древнейший Рим
Собрание рассказов о Ромуле и других основателях Рима может много поведать о том, каким римляне видели свой город, о ценностях и неудачах его жителей. Становится ясно, как римские ученые осмысляли свое прошлое и изучали историю. Но эти легенды ничего не рассказывают об особенностях жизни в городе, в частности о том, как выглядело поселение Древнего Рима и когда и при каких обстоятельствах оно превратилось в город. Один факт очевиден: Рим был уже старинным городом, когда Цицерон в 63 г. до н. э. занимал должность консула. Но если не сохранилось никаких источников от периода возникновения города и мы не можем доверять легендам, откуда тогда черпать информацию об основании Рима? Каким образом мы можем пролить свет на первые годы существования маленького городка на берегу реки Тибр, который потом превратился в мировую империю?
Как бы мы ни старались, невозможно составить связное повествование, которое бы заменило легенды о Ромуле или Энее. И не менее проблематично, что бы там ни говорили, привязать ранний период истории Рима к конкретным датам. И все же есть возможность получить общую картину того, как развивался город, и даже несколько удивительно ярких (и часто обманчивых) зарисовок из жизни раннего Рима.
Один из способов – отойти в сторону от легендарных сюжетов и поискать разгадки в самом латинском языке или в позднейших общественных институтах, которые были связаны с первыми веками римской истории. Ключом к пониманию служит явление, упрощенно или неверно называемое «консерватизмом» римской культуры. Впрочем, Рим был не более консервативен, чем Британия XIX в. В обоих случаях любые радикальные новшества вступали в спор с явным консерватизмом традиций и стиля речи. Римская культура и вправду неохотно расставалась с прошлым образом действий, накапливая своеобразные «ископаемые» ритуалы, в религии, или в политике, или в какой-либо другой сфере, даже тогда, когда изначальный смысл их был уже утерян. Как удачно отметил один современный автор, римляне были похожи на людей, которые охотно приобретают новейшие разработки бытовой техники, но не в состоянии избавиться от старой утвари, которую давно не использовали, при этом сильно загромождая кухню. Современные и античные ученые не раз замечали, что некоторые из этих «ископаемых» традиций или приспособлений много могут поведать об условиях жизни в раннем Риме.
Один из излюбленных примеров – праздник, отмечавшийся в декабре каждого года и называвшийся «септимонтиум», или семихолмие. Не вполне ясно, что тогда происходило, но один ученый обнаружил, что Септимонтиумом назывался город до того, как стал Римом, а у другого автора встречается список всех холмов (montes), охватываемых празднеством: Палациум, Велия, Фагутал, Субура, Цермал, Оппий, Целий, Циспий (см. карту 2). Тот факт, что перечислено восемь названий, свидетельствует, скорее всего, о том, что с течением времени многое могло перепутаться. Но более важно то, что странность этого списка (Палациум и Цермал составляют один холм, более известный как Палатин) и идея, что имя «Септимонтиум» предшествовало имени Рим, натолкнули на мысль, что это могли быть разрозненные деревни, объединившиеся затем в полноценный город. А отсутствие пары вполне очевидных холмов Квиринал и Виминал дало возможность некоторым ученым пойти дальше. Римские писатели для обозначения этих двух холмов чаще использовали слово colles, чем montes, хотя эти слова близки по смыслу. Может ли это разграничение означать, что на территории Рима проживали две лингвистически разные группы? Если пойти еще дальше и выделить основные племена, участвовавшие в римской истории, тогда можно связать colles с сабинянами, а montes – с римлянами?
Это лишь предположение. С большой вероятностью, праздник септимонтиум действительно связан с отдаленным прошлым Рима. Но в какой степени и насколько далеким прошлым – точно определить очень сложно. Основания для аргументации в этом вопросе довольно зыбки. Почему, собственно, нужно верить тем авторам, которые решили, что «Септимонтиум» было древнейшим названием города? Это, скорее, была отчаянная попытка объяснить архаичную церемонию, которая не вписывается ни в одну схему и до сих пор сбивает с толку исследователей. Идея о двух сообществах, похоже, стремится сохранить хоть какую-то часть легенды о Ромуле как «историю».
Данные археологии значительно более вещественны. Стоит копнуть поглубже видимых памятников античности, и можно обнаружить некоторые следы более раннего и более примитивного поселения, одного или нескольких. Чрезвычайное оживление в начале XX столетия вызвало открытие остатков древнего кладбища под Форумом. Некоторые похороненные были кремированы, пепел хранился в простых урнах рядом с кувшинами и вазами, которые когда-то были наполнены едой и напитками (одному усопшему в могилу положили небольшие порции рыбы, баранины и свинины и, возможно, каши). Другие были похоронены в простых дубовых гробах, сделанных из двух выдолбленных половинок ствола. Одна девочка примерно двух лет была погребена в платье, украшенном бисером, и с браслетом из слоновой кости. Похожие находки были обнаружены и в других частях города. К примеру, глубоко под одним из дворцов на Палатине были раскопаны останки молодого человека, преданного земле вместе с миниатюрным копьем, возможно, свидетельствующим о его занятиях при жизни.
С точки зрения археологии захоронения мертвых оставляют больше следов, чем постройки живых. Но кладбище предполагает существование рядом сообщества людей, что и было прослежено в виде скудных остатков хижин под более поздними постройками Рима в разных его районах, включая Палатин. Они дают совсем немного сведений о строительном материале (известно только, что использовались дерево, глина и солома) и образе жизни людей, в них обитавших. Но некоторые лакуны можно заполнить, если обследовать территории вне города. Одной из лучших по сохранности и качеству раскопок оказалось древнее сооружение в городе Фидены в нескольких километрах к северу от Рима, обнаруженное в 1980-х гг. Это было здание прямоугольной формы примерно 5 × 6 м, построенное из дерева (дуба и вяза) и утрамбованного грунта (эта технология называется землебитной постройкой и применяется до сих пор) с примитивной круговой галереей под нависающей крышей. Внутри центральный очаг, большие глиняные сосуды для хранения продуктов и сосуд поменьше, в котором могли держать глину для гончарных изделий. Нашли также вполне ожидаемые остатки пищи (круп и бобов) и следы пребывания домашних животных (овец, коз, коров и свиней). Самой неожиданной находкой были останки кошки, возможно привязанной. Она погибла во время большого пожара, разрушившего, скорее всего, и всю постройку. Теперь к ней пришла слава древнейшей домашней кошки в Италии.

12. Типичная кремационная урна из древних кладбищ Рима и окрестностей. Это жилище для мертвых в виде простой хижины дает представление об условиях быта живых
Можно представить себе живые сценки того времени с участием той девочки, которую похоронили в лучшем платье, и «охотника за мышами», которого в суете пожара забыли снять с поводка. Вопрос в том, что эти зарисовки дают. Археологические находки позволяют сказать, что у Древнего Рима, который мы ныне видим, была долгая предыстория. Другое дело – насколько долгая.
Проблема состоит в том, что Рим очень интенсивно застраивался во все времена, и трудно найти нетронутое место для поиска следов древнейшего заселения. В I и II вв. строились огромные мраморные храмы на Форуме, и под фундаменты для них были вырыты глубокие котлованы, уничтожившие почти все, что могло бы потом заинтересовать историков. Подвалы дворцов эпохи Возрождения врезались в более ранние культурные слои и в остальных районах Рима. Поэтому мы имеем только отдельные «разноцветные кусочки» и никогда – «мозаику» в целом. Рим – не самое благодатное поле деятельности для археолога, несмотря на то что постоянно всплывают все новые и новые фрагменты общей картины древнего города: анализ противоречивых данных и их переосмысление вызывают все новые споры и концепции. Разгорелись, к примеру, жаркие дебаты вокруг небольших кусочков плетня и штукатурки, найденных под Форумом в середине XX в. Частью чего они являются: хижины раннего поселения или возведенной несколькими веками позже насыпи для осушения местности? Надо отметить, что топкий и влажный ландшафт больше подходит для кладбища, чем для обустроенного жилья.
Точные датировки вызывают не меньше проблем. Отсюда частое употребление мной осторожного параметра «ранний» на протяжении последних нескольких страниц. Нелишним будет подчеркнуть, что точных данных по независимой датировке каждого отдельного объекта археологической коллекции нет ни для Рима, ни для окрестностей, и споры вокруг каждой крупной находки продолжают бушевать. Понадобилось несколько десятков лет в прошлом столетии для того, чтобы составить примерную хронологическую таблицу, охватывающую период с 1000 до 600 г. до н. э. Использовались такие маркеры, как керамика, выполненная на гончарном круге, которую считают более поздним изобретением, чем ручная; случайные предметы греческой керамики, датировка которой неидеальна, но значительно надежнее римской.
По этой методике самые ранние захоронения под Форумом датируются примерно 1000 г. до н. э., а хижины на Палатине были построены между 750–700 гг. до н. э., что на удивление близко к легендарному 753 г. до н. э. Но и эти вычисления не очень точны. Современные методы определения возраста позволяют отнести эти сооружения лет на сто раньше. Речь идет о радиоуглеродном анализе, который измеряет оставшееся количество радиоактивного изотопа углерода в органическом материале образца. Яркий пример расхождения датировок – хижина в Фиденах: согласно традиционным археологическим методам, она возникла в середине VIII в. до н. э., тогда как радиоуглеродный анализ относит ее к концу IX в. до н. э. В настоящее время многие привычные даты смещаются – Рим, во всяком случае, становится старше.
Что не подлежит сомнению: к VI в. до н. э. Рим представлял собой городское поселение с выраженным центром и несколькими общественными зданиями. Про то, что было до этого, в среднем и позднем бронзовом веке, между XVII и XIII вв. до н. э., говорит множество разрозненных свидетельств. Здесь, скорее всего, люди жили постоянно, а не только останавливались во время походов и торговых миссий. В обширный промежуточный период более крупные деревни разрастались с оформлением местной элиты из богатых семейств (о чем можно судить по тому, что укладывалось покойникам в могилу). Затем отдельные сообщества слились в единое городское поселение, что и наблюдалось в VI в. до н. э. Нам неизвестно, в какой момент жители разрозненных деревень осознали себя населением одного города. И тем более невозможно определить, когда они стали именовать его Римом.
Археологи могут поведать нам не только о месте и времени производства найденных материалов и изделий. Все эти вещи из недр города и территорий за его пределами могут много рассказать о том, как была устроена жизнь в Риме в ту далекую эпоху. Во-первых, у него были богатые связи с внешним миром. Взять хотя бы выше упомянутые артефакты из римских захоронений: браслет из слоновой кости, найденный в могиле девочки, или греческую керамику, произведенную в Коринфе или Афинах. О торговых отношениях с севером свидетельствуют некоторые украшения и отделка из привезенного янтаря; нет точных сведений о способе их доставки в центральную Италию, но контакты с Балтией, прямые или опосредованные, очевидно, имелись. Ранний Рим был узлом из нитей, плотно связывающих его с внешним миром, что Цицерон, вероятно, и имел в виду, когда говорил о его стратегически выгодном положении.
Во-вторых, между Римом и его соседями были определенные сходства и различия. Население Апеннинского полуострова между 1000 и 600 гг. до н. э. было чрезвычайно неоднородным. Бок о бок проживали отдельные неродственные племена с разными культурными традициями, происхождением и языками. Лучше всех описаны греческие поселения на юге Италии: Кумы, Тарент, Неаполь, основанные в VIII в. до н. э. и позднее переселенцами из основных городов Греции в качестве колоний в древнегреческом, а не современном смысле этого понятия (переселенцы были колонисты, а не колонизаторы). Каковы бы ни были причины и планы создания новых полисов, большая часть южной Италии и Сицилия оказались частью греческого мира и сохраняли тесные связи в области науки и искусства с метрополиями. Поэтому не стоит удивляться, что одни из самых ранних древнегреческих письменных источников были найдены именно здесь. Гораздо сложнее восстановить историю прочих народностей, населявших полуостров: от этрусков, обитавших севернее, латинян и сабинян на подступах к Риму, до осков, которые составляли изначальное население Помпей, и самнитов. От них не осталось никаких памятников литературы (если таковая у них была), мы можем черпать сведения о них только из данных археологии или текстов, выгравированных на камне или бронзе – понятных или совсем непонятных, – а также из римских сочинений, написанных гораздо позже, часто с оттенком превосходства римлян; по всей видимости, отсюда возникает грубый образ самнитов как опасных примитивных варваров, незнакомых с городским укладом жизни.
Данные раскопок упрямо рисуют образ раннего Рима как совершенно обычного города. Процесс слияния мелких поселений в городское образование, похоже, протекал здесь в тот же период, что и на территории вокруг Рима и к югу от него. Предметы из захоронений – и керамика, и бронзовые броши, и некоторые другие более экзотические изделия – везде совпадают с римскими. Если и есть какое-то отличие римских находок, то скорее придется сказать об их скудости и скромности. Нет ничего среди римских образцов, что сравнилось бы с находками из необычных гробниц, обнаруженных в близлежащей Пренесте (ныне Палестрина), хотя это может быть дело случая и артефактам из Рима просто не везет. Есть мнение, что самые интересные результаты раскопок XIX в. были украдены для продажи на антикварном рынке. Вопрос, который мы будем рассматривать в последующих главах, в том, когда Рим перестал быть заурядным итальянским городом.
