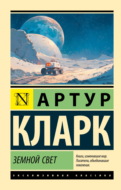Czytaj książkę: «Синяя борода»
Kurt Vonnegut
BLUEBEARD
Печатается с разрешения издательства Dial Press, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC и литературного агентства Nova Litera SIA.
Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD.Copyright © 1987 by Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 2004 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved
© Kurt Vonnegut, 1987
© Перевод. Л. Дубинская, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Автобиография Рабо Карабекяна (1916–1988)
Посвящаю свою книгу Цирцее Берман.
Что тут еще пояснять?
Р.К.
От автора
Это роман, но это и трюк, вымышленная автобиография. Не надо воспринимать книгу как серьезную историю абстрактного экспрессионизма, первого значительного направления живописи, зародившегося в Соединенных Штатах Америки. Это история того, как я воспринимаю разные вещи. Не более того.
Рабо Карабекяна никогда не существовало, равно как Терри Китчена, Цирцеи Берман, Пола Шлезингера, Дэна Грегори, Эдит Тафт, Мерили Кемп и всех остальных персонажей этой книги. Что касается реально существовавших, притом знаменитых людей, которые мною упомянуты, то я не заставил их делать ничего такого, чего они не сделали бы, попав в подобные обстоятельства.
Позвольте заметить, что многое в книге – реакция на непомерные цены, которые в уходящем столетии платили за произведения искусства. Фантастическая концентрация банкнот дала возможность некоторым людям и организациям материально стимулировать кое-какие человеческие шалости с неуместной и потому огорчительной серьезностью. Я имею в виду не только детскую мазню, выдаваемую за искусство, но и прочие ребяческие забавы – когда взрослые, как дети, носятся, прыгают или мяч гоняют.
Или пляшут.
Или распевают песни.
Мы для того и существуем, чтобы помочь друг другу справиться со всем этим, как это ни назови.
Доктор Марк Воннегут (из письма автору, 1985 г.)
1
Поставив точку в своем жизнеописании, я счел благоразумным бегло пройтись по написанному обратным ходом, и, вернувшись к началу, к моей, так сказать, входной двери, приношу извинения прибывающим гостям: «Я обещал вам автобиографию, но кое-что пошло не так, пока я ее стряпал. В результате биография оказалась еще и дневником минувшего беспокойного лета! Но если понадобится, можно в любой момент послать за пиццей. Входите же, входите».
Я – бывший американский художник Рабо Карабекян, человек с одним глазом. Я родился в Сан-Игнасио, штат Калифорния, в 1916 году в семье эмигрантов. За эту автобиографию я принимаюсь спустя семьдесят один год. Для непосвященных в древние тайны арифметики: сейчас, стало быть, 1987 год.
Я не родился циклопом. Левого глаза я лишился незадолго до конца Второй мировой войны в Люксембурге, командуя взводом саперов, которые – вот любопытно! – в гражданской жизни были художниками разных направлений. Вообще-то мы занимались маскировкой, но в то время пришлось сражаться за свою жизнь как самой обычной пехоте. Взвод сформировали сплошь из художников, поскольку кому-то из армейских пришло в голову, что по части маскировки художники – то что надо.
И правильно: мы были то что надо! То что надо! Как мы дурили немцев нашими мистификациями. Они и понять не могли, что для них представляет опасность в нашем расположении, а что нет. Да к тому же нам и жить позволялось как художникам, чихать мы хотели на форму да на всякие эти военные ритуалы. Нас никогда не включали в обычное войсковое соединение, такое, как дивизия или там даже корпус. Приказы нам отдавал непосредственно Главный штаб Объединенных экспедиционных сил, который приписывал нас то одному генералу, то другому, а они уже были наслышаны о том, как мы противника сбиваем с толку. Генерал этот ненадолго становился нашим патроном, снисходительно держался, почти всегда восторгаясь нами, и в конце концов испытывал признательность.
И мы были нарасхват.
Поскольку в армию я записался и стал лейтенантом за два года до вступления Соединенных Штатов в войну, то к концу ее должен был бы получить звание подполковника, не меньше. Но, дослужившись до капитана, я сам отказался от повышений – не хотел расставаться со своей славной семьей из тридцати шести человек. Это был первый мой опыт с такой большой семьей. Второй возник после войны, когда я сблизился с теми американскими художниками, которые теперь вошли в историю искусства как основатели абстрактного экспрессионизма. И не только сблизился, но и ни в чем им не уступал.
* * *
У матери моей и отца там, в Старом Свете, семьи были побольше, чем эти, и уж конечно, у них в семьях все друг с другом в кровном родстве состояли. Родственников они потеряли во время резни, когда Турецкая империя уничтожила около миллиона своих армянских подданных, которых объявила предателями по двум причинам: во‐первых, они были умные и грамотные, а во‐вторых, у многих имелись родичи по ту сторону границы с врагом, с Русской империей.
Тогда была эпоха империй. Да и сейчас тоже, если разобраться.
Германская империя, союзник турецкой, послала беспристрастных военных наблюдателей оценить, сколько народу погибло в первый на столетие геноцид – слово, которого тогда еще не существовало ни на одном языке. Теперь всем известно, что такое геноцид, это тщательно продуманная операция с целью уничтожения каждого представителя определенного подсемейства рода человеческого, будь то мужчина, женщина или ребенок.
Столь грандиозные планы требуют решения чисто технических задач: как дешево и быстро убить такую массу крупных, хорошо соображающих животных, да чтобы никто не удрал, а потом еще ликвидировать горы мяса и костей. Турки, поскольку были в этом деле пионерами, не имели навыков для действительно большого бизнеса и не располагали необходимыми техническими средствами. Зато не пройдет и четверти века, как немцы великолепно продемонстрируют и то и другое. А турки просто хватали подряд всех армян, какие попадутся, когда обшаривали дома или прочие места, где армяне работали, отдыхали, играли, молились, учились и так далее, а затем выгоняли их в чистое поле, оставив без еды, питья и крова, и избивали до смерти или палили, пока никого в живых не останется. А уж ликвидировали беспорядок, довершая дело, собаки, коршуны, грызуны разные и совсем под конец – черви.
Мать, которая тогда еще не была моей матерью, только прикинулась мертвой среди трупов.
Отец, который тогда еще не был ее мужем, школьный учитель, спрятался в уборной за школой и так вот среди дерьма и пересидел, пока солдаты не ушли. Уроки уже кончились, и мой будущий отец, как он мне рассказывал, сидел в школе один, сочинял стихи. Услышав, что идут солдаты, он сразу понял зачем. Отец так и не увидел, как убивали. Мертвая тишина в деревне, единственным обитателем которой он, с ног до головы перемазанный дерьмом, остался с наступлением ночи, была для него самым жутким воспоминанием о резне.
Хотя воспоминания матери о событиях в Старом Свете были еще ужаснее, ведь она побывала прямо там, где людей забивали как скот, приехав в Америку, она сумела каким-то образом о резне больше не думать, ей очень тут у нас понравилось, и у нее пробудились мечты о счастливой семейной жизни.
А вот у отца – нет.
Я вдовец. Моя жена, вторая моя жена, урожденная Эдит Тафт, умерла два года назад. Она оставила мне в Ист-Хемптоне на Лонг-Айленде, прямо у океана, этот дом из девятнадцати комнат, которым владели три поколения ее семьи из Цинциннати, штат Огайо, они по происхождению из англосаксов. Вот уж не думали ее предки, что дом достанется человеку с таким экзотическим именем.
Рабо Карабекян.
Может, их призраки здесь и появляются, но ведут они себя – епископальное воспитание – до того деликатно, что до сих пор никому еще не попались на глаза. Но если бы мне случилось столкнуться с одним из них на парадной лестнице и он или она указали бы мне, что я не имею права на этот дом, я ответил бы: «Вините статую Свободы».
Покойная Эдит и я прожили душа в душу двадцать лет. Она была внучатой племянницей Уильяма Говарда Тафта, двадцать седьмого президента Соединенных Штатов и десятого главного судьи Верховного суда. Она была вдовой спортсмена и директора коммерческого банка из Цинциннати Ричарда Фербенкса-младшего, потомка Чарльза Уоррена Фербенкса, сенатора Соединенных Штатов от Индианы, а затем вице-президента при Теодоре Рузвельте.
Мы познакомились задолго до смерти ее мужа, когда я уговорил ее (и его тоже, хотя это было ее имущество) сдать мне под студию пустовавший амбар для картофеля. Они, конечно, не были фермерами и отродясь картофелем не занимались. Просто купили у соседа-фермера участок подальше от берега, примыкавший к их владениям с севера, – не хотели, чтобы на нем что-то выращивали. Вот как появился картофельный амбар.
Сблизились мы с Эдит только после смерти ее мужа, а к тому времени моя первая жена Дороти с двумя нашими сыновьями Терри и Анри ушла от меня. Я продал наш дом в поселке Спрингс, шесть миль к северу отсюда, и амбар стал не только моей студией, но и домом.
Это странное обиталище, кстати, не видно из самого особняка, где я сейчас пишу.
У Эдит не было детей от первого брака, и было уже поздно их иметь, когда по моей милости из миссис Ричард Фербенкс-младшей она превратилась в жуть какая! – миссис Рабо Карабекян.
Вот и получилась крохотная семья, занимающая громадный дом с двумя теннисными кортами, плавательным бассейном, да еще каретный сарай, да картофельный амбар, да триста ярдов собственного пляжа на Атлантическом побережье.
Казалось бы, мои сыновья Терри и Анри Карабекян, которых я назвал одного в честь моего лучшего друга, покойного Терри Китчена, а другого – в честь художника, которому мы с Терри больше всего завидовали, Анри Матисса, могли приезжать сюда со своими семьями. У Терри уже два сына. У Анри дочь.
Но они со мной не разговаривают.
– Ну и пусть! Ну и пусть! – Глас вопиющего в лакированной пустыне.
– Наплевать!
Нервы не выдержали, простите.
Природа наделила Эдит благословенным даром материнства, хлопотуньей она была неуемной. Не считая слуг, жило нас в доме всего-то двое, но вот сумела она наполнить этот громоздкий викторианский ковчег любовью, и радостью, и уютом, своими руками созданным. Хотя всю жизнь она была уж никак не из бедных, а ведь возилась на кухне вместе с кухаркой, в саду с садовником, сама всю провизию закупала, кормила птичек, животных, которых мы держали, да еще диким кроликам, белочкам и енотам от нее перепадало.
А еще у нас часто устраивались вечеринки, и приезжали гости, которые жили неделями, – в основном ее друзья и родственники. Я уже говорил, как обстояли и обстоят дела с моими немногочисленными кровными родственниками, моими потомками, которые порвали со мной. А что до искусственных, которые в армии появились, так многие из них погибли в том небольшом сражении, когда я сам лишился глаза и попал в плен. Тех, кто уцелел, я с тех пор не видел и про них ничего не слышал. Может, не так они меня и любили, как я их полюбил.
Такое бывает.
Из моей второй искусственной семьи абстрактных экспрессионистов теперь уж мало кто в живых остался: кого старость прикончила, кто сам себя – причины разные. Немногие оставшиеся, как и мои кровные родственники, больше со мной не разговаривают.
– Ну и пусть! Ну и пусть! – Глас вопиющего в лакированной пустыне.
– Наплевать!
Нервы не выдержали, простите.
Вскоре после смерти Эдит все наши слуги уволились. Объяснили, что здесь стало очень уж мрачно. И я нанял других и плачу им кучу денег за то, что они терпят меня и всю эту мрачность. Пока была жива Эдит, жив был и дом, и садовник тут жил, и две горничные, и кухарка. А теперь живет только кухарка, причем, как я уже говорил, другая, и занимает вдвоем с пятнадцатилетней дочерью весь четвертый этаж крыла, отведенного для прислуги. Она в разводе, родом из Ист-Хемптона, на вид лет около сорока. Ее дочь Селеста на меня не работает, просто живет в моем доме, ест мою еду и развлекает своих шумных и жутко невоспитанных приятелей на моих теннисных кортах, в моем плавательном бассейне и на принадлежащем мне пляже.
Меня она и ее приятели не замечают, словно я какой-то дряхлый ветеран давно забытой войны, давно в маразме, и доживаю ту малость, что мне осталось, на правах музейного сторожа. Ну, и нечего обижаться. Этот особняк не только мой дом, здесь хранится самая значительная частная коллекция живописи абстрактного экспрессионизма. А поскольку я уж десятки лет ничего полезного не делаю, кто я в самом деле, если не служитель в музее? И, как положено служителям, жалованье за это получающим, приходится мне в меру своего понимания отвечать на вопрос, который, по-разному формулируя, непременно задают все посетители: «Что этими картинами выразить-то хотели?»
Эти картины, которые абсолютно ни о чем, просто картины, и все, принадлежали мне задолго до женитьбы на Эдит. И стоят они по крайней мере не меньше, чем вся недвижимость плюс акции и облигации, включая четвертую часть доходов профессиональной футбольной команды «Цинциннати Бенгалс», – чем все, что мне оставила Эдит. Так что не думайте, будто я эдакий американский охотник за состоянием.
Художником я, наверно, был паршивым, зато каким я оказался коллекционером!
2
И в самом деле, очень здесь стало одиноко после смерти Эдит. Все наши друзья были ее друзьями, не моими. Художники чурались меня, так как мои картины вызывали только насмешки, которых заслуживали, и обыватели, поглядев на них, принимались рассуждать, что художники, мол, по большей части дураки или шарлатаны. Ладно, я привык к одиночеству, что поделаешь.
Мирился с ним, когда был мальчишкой. Мирился и в годы Великой депрессии, когда жил в Нью-Йорке. Когда в 1956 году первая жена с двумя сыновьями покинули меня, тогда я уже поставил крест на своих занятиях живописью, я и сам стал искать одиночества, а его обрести не трудно. Восемь лет жил я отшельником.
Ничего себе работенка с утра до вечера для старика-инвалида, а?
Но друг у меня все-таки есть, и это мой друг, только мой. Писатель Пол Шлезингер, такой же старикан, и тоже покалеченный на Второй мировой. Ночует он совсем один в доме по соседству с моим прежним домом в Спрингсе. Говорю – ночует, потому что с утра он почти каждый день у меня. Наверно, он и сейчас где-то здесь, наблюдает за игрой в теннис или, сидя на берегу, глядит на море, а то, может, играет с кухаркой в карты или, спрятавшись от всех, книжку читает вон там, за картофельным амбаром, куда никто и не забредет.
По-моему, он ничего уже не пишет. И я – говорил уже – совсем бросил заниматься живописью. Хоть бы что-нибудь набросал в блокноте, лежащем внизу у телефона, и то нет. Правда, несколько недель назад поймал я себя как раз за этим занятием, так – вы что думаете? – нарочно карандаш сломал, разломил его надвое, точно вырвал жало у ядовитого змееныша, который собрался меня куснуть, и швырнул обломки в мусорную корзину.
У Пола нет денег. Четыре-пять раз в неделю он ужинает у меня, а днем перехватит что-нибудь, заглянув в мой холодильник, из бутылки с соком потянет, в общем, основной его кормилец – я. Много раз за ужином я говорил ему:
– Ты бы продал свой дом, Пол, денежки бы завелись на карманные расходы, и переезжай сюда, а? Здесь же уйма места! Я уже не женюсь и подруги не заведу, да и ты вряд ли. Бог ты мой! Кому мы нужны? Парочка выпотрошенных игуан! Переезжай! Я не буду тебе мешать, и ты мне тоже. Что может быть разумнее?
А он в ответ всегда одно и то же: «Я могу писать только дома».
Хорош дом – ни души, а в холодильнике шаром покати!
А о моем доме он как-то сказал:
– Разве можно писать в музее?
Сейчас вот я и выясняю, можно или нет? Я как раз в этом музее пишу.
Да, правда пишу. Я, старый Рабо Карабекян, потерпевший фиаско в изобразительном искусстве, теперь пробую силы в литературе. Но, как истинное дитя Великой депрессии, я не рискую, крепко держусь за свое место служителя музея.
Что же вдохновило меня, в мои-то годы, переменить ремесло, да так круто? Cherchez la femme!
Без приглашения – никак не вспомню, чтобы я ее приглашал, – у меня поселилась энергичная, уверенная в себе, чувственная и весьма еще молодая особа!
Говорит, что видеть не в состоянии, как я целыми днями болтаюсь без дела, надо обязательно заниматься хоть чем-нибудь. Чем угодно. Если ничего лучше в голову не приходит, почему бы мне не написать автобиографию?
А правда, почему бы и нет?
Эта женщина такая властная!
Ловлю себя на том, что делаю все, как она считает нужным. Покойная Эдит за двадцать лет супружества так ни разу и не подумала, чем бы занять меня. В армии я встречал полковников и генералов, похожих на эту женщину, так внезапно вошедшую в мою жизнь, но они ведь были мужчины, и притом на войне.
Кто мне эта женщина? Друг? А черт ее разберет! Знаю только, что никуда она отсюда не денется, пока ей самой не захочется, а у меня прямо поджилки со страху трясутся, как ее увижу.
Помогите!
Ее зовут Цирцея Берман.
* * *
Она вдова. Ее муж был нейрохирургом в Балтиморе, и там у нее есть собственный дом, такой же огромный и пустой, как мой. Эйб, муж ее, умер полгода назад от инсульта. Ей сорок три года, и она облюбовала мой дом, чтобы спокойно поработать – она пишет биографию мужа.
В наших отношениях нет ничего эротического. Я на двадцать восемь лет старше миссис Берман и стал такой урод, что меня разве собака полюбит. Я и правда похож на выпотрошенную игуану, да еще и одноглазую притом. Что есть, то есть.
Познакомились мы так: как-то в полдень миссис Берман забрела на мой пляж, не подозревая, что он частный. Обо мне она никогда не слышала, потому что терпеть не может современную живопись. В Хемптоне она не знала ни души и остановилась в местной гостинице «Мейдстоун», это милях в полутора отсюда. Прогуливалась по берегу и вторглась в мои владения.
В полдень я, как обычно, спустился на пляж окунуться, а там на песке – она, одетая с ног до головы. Сидит, уставившись на море, ну точь-в-точь, как Пол Шлезингер, он так часами просиживает. Ну и ладно, только вот при моем нелепом телосложении я предпочитаю купаться один, без посторонних, главное же, спускаясь на пляж, я снял с глаза повязку. А под ней – месиво, прямо яичница-болтунья. Лучше не смотреть. Я был в замешательстве. Пол Шлезингер, между прочим, говорит, что чаще всего состояние человека можно передать всего-навсего одним словом: замешательство.
В общем, я решил не купаться, а так, позагорать на некотором расстоянии от нее.
Но все-таки приблизился ровно настолько, чтобы сказать: «Здрасьте».
А она ни с того ни с сего:
– Расскажите, как ваши родители умерли.
Ничего себе! У меня по спине мурашки побежали! Не женщина, а колдунья какая-то! Не будь она колдунья, разве удалось бы ей меня уговорить за автобиографию взяться?
Вот сейчас заглянула ко мне в комнату и напомнила, что мне пора отправляться в Нью-Йорк, куда я не ездил с тех пор, как умерла Эдит. Вообще не помню, чтобы я с тех пор куда-нибудь ездил.
– Привет, Нью-Йорк, вот и я. Жуть какая!
– Расскажите, как ваши родители умерли, – говорит.
Я ушам своим не поверил.
– Простите? – говорю.
– Что толку-то в этом вашем «здрасьте»? – заявила она.
Сразу заставила меня переменить тон.
– Лучше, чем ничего, мне так всегда казалось, – объясняю, – но, может, я и не прав.
– Что это значит – «здрасьте»? – спрашивает.
– Ну, я приветствую вас, здравствуйте, как еще сказать?
– Ничего подобного, – отвечает. – Это значит: не заговаривайте ни о чем серьезном. Это значит: я вам улыбаюсь, но дела мне до вас нет, так что проваливайте.
И еще, и еще, надоело, мол, ей, когда пустыми словами отделываются, вместо того чтобы по-настоящему познакомиться.
– Так что присаживайтесь и расскажите мамочке, как умерли ваши родители.
Мамочке! Вот это да – «мамочке»!
У нее прямые черные волосы и большие карие глаза, как у моей покойной матери, но ростом она гораздо выше. Честно говоря, даже немножко выше, чем я. И фигура гораздо стройнее, чем у мамы, которая с годами изрядно растолстела и не очень-то следила, как выглядит, как одевается. Не следила, потому что отцу было все равно.
И я рассказал миссис Берман о матери:
– Она умерла, когда мне было двенадцать лет, – от столбняка, который, очевидно, подхватила, работая на консервной фабрике в Калифорнии. Консервную фабрику построили на месте бывшей конюшни, а в кишечнике лошадей – им-то это безвредно – часто поселяются бактерии столбняка и образуют долгоживущие споры, такие крохотные бронированные семена, которые в экскрементах видны. Одна из спор, затаившаяся в грязи под конюшней, была каким-то образом эксгумирована и отправилась путешествовать. Спала себе, спала и пробудилась в раю – все мы о таком мечтаем. А раем для нее был порез на руке моей матери.
– Прощай, мамочка, – сказала Цирцея Берман.
Опять «мамочка»!
– Ладно, зато ей не пришлось пережить Великую депрессию, которая началась год спустя, – сказал я.
И зато она не видела, что ее единственный сын вернулся с войны одноглазым циклопом.
– А как умер отец? – спросила миссис Берман.
– В кинотеатре «Бижу» в Сан-Игнасио, 1938 год, – сказал я. – Он ходил в кино один. О новой женитьбе и не думал даже. Так и жил себе в Калифорнии над лавчонкой, с которой когда-то начал внедряться в экономику Соединенных Штатов. А я уже лет пять как жил на Манхеттене, работал художником в рекламном агентстве. Фильм кончился, зажегся свет, и все ушли домой. Все, кроме отца.
– А какой был фильм? – спросила она. И я ответил:
– «Отважные капитаны» со Спенсером Треси и Фредди Бартоломью в главных ролях.
Бог знает, что отец мог извлечь из этого фильма о рыбаках, ловивших треску в Северной Атлантике. Может, он и увидеть-то ничего не успел, умер сразу. А если посмотрел хоть немножко, то получил, наверно, горькое удовлетворение от того, что происходившее на экране не имело решительно никакого отношения ни к чему и ни к кому из его жизни. Ему нравились любые свидетельства того, что планета, которую он знал и любил в юности, исчезла безвозвратно.
Так он чтил память родных и друзей, погибших во время резни.
Он, можно сказать, стал сам себе турком здесь, в Америке, в грязь себя втоптал и плевал себе в лицо. Мог ведь выучить английский и сделаться уважаемым учителем в Сан-Игнасио, или снова за стихи бы принялся, или, допустим, переводил бы своих любимых армянских поэтов на английский. Но такое – не унизительно, а ему надо было унизить себя. Надо ему было – с его-то образованием – стать тем же, чем его отец и дед были, сапожником то есть.
Он был очень искусен в этом ремесле, которому выучился мальчишкой и которому мальчишкой выучил и меня. Но как же он сетовал на судьбу! Хорошо хоть, что причитал по-армянски и, кроме нас с матерью, никто его не понимал. Мы были единственными армянами миль на сто вокруг в Сан-Игнасио.
– Я обращаюсь к Уильяму Шекспиру, величайшему вашему поэту, – приговаривал он, работая, – вы-то когда-нибудь слышали о нем? – Сам он знал Шекспира в переводе на армянский вдоль и поперек и часто читал его наизусть. «Быть или не быть…», например, у него звучало: «Линел кам шлинел…»
– Вырвите мне язык, если услышите, что я говорю по-армянски. – Мог и такое сказануть. В семнадцатом веке турки наказание такое придумали каждому, кто говорил не по-турецки, – язык вырывали.
– Что за люди кругом, сам я что здесь делаю? – недоумевал он, глядя на проходящих мимо ковбоев, китайцев и индейцев.
– Пора бы уже в Сан-Игнасио воздвигнуть памятник Месропу Маштоцу! – иронизировал он. Месроп Маштоц, живший примерно за четыреста лет до рождества Христова, создал армянский алфавит, совершенно не похожий на другие алфавиты. Армяне, кстати, были первым народом, который сделал христианство своей государственной религией.
– Миллион, миллион, миллион, – повторял он. Считается, что турки миллион армян убили в ту резню, когда моим родителям удалось спастись. То есть две трети армян, живших в Турции, и около половины армян во всем мире. Сейчас нас около шести миллионов, включая двух моих сыновей и трех внуков, которые о Месропе Маштоце ничего не знают и знать не хотят.
– Муса Дах! – восклицал он. Так называлось местечко в Турции, где горстка армян – мирных жителей сорок дней и ночей противостояла турецким солдатам, пока не была истреблена полностью, – примерно в то время, когда мои родители – со мной в мамином животе – целые и невредимые добрались до Сан-Игнасио.
* * *
– Спасибо, Вартан Мамигонян, – любил он повторять. Так звали армянского национального героя, возглавившего войско армян в проигранной войне с персами в пятом веке. Но тот Вартан Мамигонян, которого имел в виду отец, был обувным фабрикантом в Каире, шумной многоязычной столице Египта, куда, спасаясь от резни, бежали мои родители. Этот человек, сам еле уцелевший в какой-то резне, уверил моих наивных родителей, которых случайно встретил на пути в Каир, что они увидят улицы, мощенные золотом, если только доберутся – куда бы вы думали? – в Сан-Игнасио, штат Калифорния. Но об этом я потом расскажу.
– Может, и раскусишь, что такое жизнь, только уже слишком поздно, – говорил он. – Мне теперь все равно.
– Не теряйте надежды, друзья, за бедою приходит удача, – напевал он. Это, сами знаете, из американской песни «Дом на ранчо», он слова перевел на армянский. Считал их дурацкими.
– И Толстой тачал сапоги, – любил он повторять. И правда: величайший русский писатель и идеалист, стараясь заняться каким-то, как ему казалось, стоящим делом, одно время тачал сапоги. Позволю себе заметить, что я тоже могу тачать сапоги. Если понадобится.
Цирцея Берман говорит, что может брюки сшить, если понадобится. Когда мы познакомились на берегу, она рассказала, что у отца ее была брючная фабрика в Лакаванне, штат Нью-Йорк, но потом он разорился и повесился.
Если бы мой отец не умер на «Отважных капитанах» со Спенсером Треси и Фредди Бартоломью в главных ролях и увидел написанные мною после войны картины, из которых кое-какие привлекли серьезное внимание критиков и были проданы за недурные по тем временам деньги, он бы уж точно, как большинство американцев, презрительно фыркал и глумился над ними. Высмеивал бы, разумеется, не меня одного. Высмеивал бы и моих собратьев по кисти, абстрактных экспрессионистов Джексона Поллока, Марка Ротко1, Терри Китчена и других, которые, не в пример мне, теперь признаны величайшими художниками не только Америки, но и всего этого мира, черт бы его подрал. Но мне-то одно вонзается в голову, как шип, хоть много лет я об этом и не задумывался: он бы не колеблясь глумился над собственным сыном, надо мной, значит.
Вот так, благодаря беседе, в которую миссис Берман втянула меня всего две недели назад, я впал в нелепую юношескую обиду на отца, умершего чуть ли не пятьдесят лет назад. Позвольте спрыгнуть с этой проклятой машины времени!
Но попробуй-ка спрыгни с нее, с проклятой машины времени! Никак уж этого не хотел бы, а, пожалуйста, все время возвращаюсь к мысли, что отец хохотал бы, как все прочие хохотали, когда мои картины из-за непредсказуемых химических реакций между грунтовкой холстов и акриловыми красками, которыми я их писал – да еще и полосы пожирнее из тюбика выдавливал, – возьми и погибни.