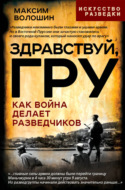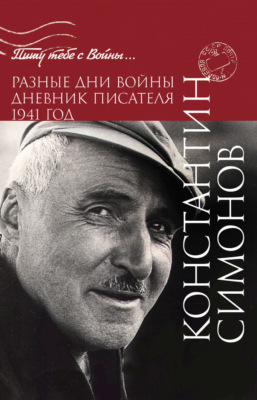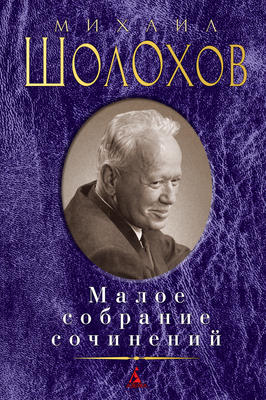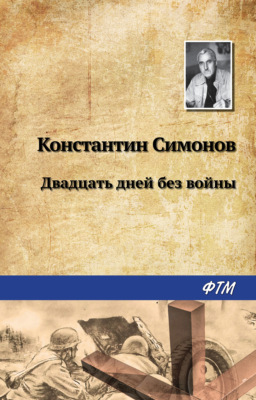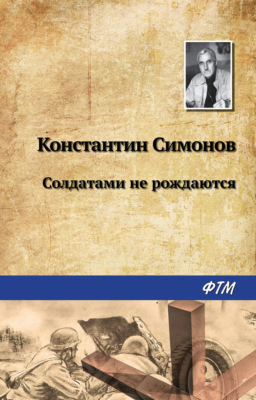Czytaj książkę: «Наука ненависти. Фронтовые репортажи Великой Отечественной», strona 4
Константин Симонов
В лапах у фашистского зверя
За 4 месяца войны мне пришлось видеть много страшного. Я видел изуродованные немцами трупы детей, останки сожженных живьем красноармейцев, сгоревшие деревни, развороченные бомбами дома. И все-таки самое страшное, пожалуй, с чем пришлось столкнуться мне на этой войне, – это бесхитростный и простой рассказ пулеметчика Михаила Игнатовича Компанейца. Рассказ о том, как он провел две недели в фашистском плену и как из него выбрался.
Осенним вечером сторожевое охранение, в котором был со своим пулеметом Компанеец, отходило на новый рубеж. Когда пулемет перенесли метров на 300 в глубь леса, заметили, что нет одного подносчика. Компанеец нашел его на опушке леса, тяжело раненого, и, отложив в сторону винтовку, стал перевязывать. В эту минуту трое немецких солдат, подкравшись незаметно, прыгнули сверху в овраг на склонившегося Компанейца. Так он попал в плен.
Его повели, подталкивая прикладами. По дороге Компанеец выхватил из кармана документы и бросил их в кусты.
Через несколько минут они дошли до расположения немецкой части. Из палатки вышел немец. Молча обшарил его карманы, сорвал пилотку со звездой и кинул ее на землю. Никто не говорил по-русски. По приказу офицера один из солдат вынес две лопаты, знаками показал, что Компанеец должен рыть яму, и сам, очевидно для скорейшего завершения дела, стал помогать ему. Кругом кольцом стояли немецкие солдаты в предвкушении зрелища. Яма была уже вырыта наполовину, когда подошедший старший офицер что-то сказал по-немецки, очевидно, удовольствие решено было отсрочить. Вырвав из рук Компанейца лопату, его повели дальше.

Константин Симонов
Через 2 часа Компанеец был на железнодорожной станции, где стояла кучка человек в 30 пленных, все по одному или по нескольку раз раненые. Офицер спросил его по-русски:
– Откуда, где твоя часть?
Компанеец ответил, что если бы знал, где сейчас его часть, так он бы сюда не попал. Еще несколько вопросов и несколько пинков за невежливые ответы, и пленный был оставлен в покое. Очевидно, допрашивать всерьез должны были где-то в другом месте.
Несколько человек здоровых и легко раненых стали укладывать в грузовик тяжело раненых, которых было большинство. Когда выяснилось, что лежа все не уместятся, офицер велел поднять лежавших и всех подряд вплотную поместили на машине стоя.
После нескольких часов пути грузовик остановился. Не спуская раненых с машины, немцы оставили их ночевать стоя, прижатых друг к другу. Затекали ноги, люди были уже не в силах стоять, падали, налегали на раненых, поневоле топча их сапогами. Раненые кричали не своим голосом, стояли стон и крик. Все просили дать возможность вынести из машины и положить на землю хоть тяжело раненых, но каждая попытка вылезти из кузова встречалась ударами штыков. Многие получили новые раны. Только утром раненых свалили с машин на землю и, что с ними было дальше, Компанеец не знает, больше он их никогда не видел.
Всех тех, кто мог стоять на ногах, повели дальше. К полудню дали по кусочку хлеба и по кружке кипятка без сахара, развели три костра, и три переводчика сразу стали допрашивать. Допрашивали долго, особенно упорно стараясь выяснить, не командир ли.
Шел холодный дождь пополам со снегом, переводчики стояли, грея руки над кострами и не давая пленным подходить к огню ближе, чем на 10 шагов. Через несколько часов совершенно замерзших и обессилевших пленных построили по трое и повели дальше по дороге. К ним подошел высокий офицер с крестами:
– Ну, теперь кончились ваши тревоги, господа, – сказал он по-русски. – Да, да, вам здесь будет очень хорошо, только скажите все-таки, может, среди вас есть командиры или сержанты?
Пленные ответили молчанием. Их повели дальше. К вечеру их загнали в лагерь, окруженный проволокой и обведенный рвом. Там был новый допрос. Каждого допрашивали сразу трое. Один переводил, другой на бумажку заносил, а третий в карманах трусил, – вспоминает об этом Компанеец.
Потом каждому навязали на шею веревку с железным номером, заставили обмакнуть пальцы в какую-то черную жидкость и оставить отпечаток на допросном листе. Пленные стояли с вывороченными карманами. Рядом с переводчиком лежала куча часов, денег, бритв, носовых платков, – немцы забрали все дочиста. Ограбленных и голодных людей втолкнули в низкие, сырые землянки, и началась лагерная жизнь.
Основой ее был хорошо организованный, продуманный голод – ежедневная пытка, преследующая своей целью свести людей с ума и превратить их в животных. Через день варили суп из конины. Лошадь свежевали нарочно на глазах у пленных, срезали все мясо и складывали в сторону, объясняя, что будут его солить, чтобы кормить зимой. Из костей варили суп, после варки вынимали их и складывали в горку. Раз в день с треском бросали кости через проволоку пленным – это было развлечение для всего немецкого гарнизона.
Все конвойные били пленных, когда им заблагорассудится: одни – с криками и ругательствами, другие – молча тыча под ребра, в зависимости от темперамента. Лупили по всякому поводу: за то, что голова высунулась из строя, за то, что высоко поднял голову, за то, что низко опустил голову, – за все.
Однажды приехал какой-то немец, хорошо говоривший по-русски. Он собрал пленных и чрезвычайно любезно предложил им задавать вопросы на любые темы. Кто-то наивно спросил его, как сейчас на фронте. «На фронте, ну что-ж, Ленинград сожжен и наполовину занят».
«А Мурманск?» – «Мурманск тоже сожжен и окружен», – без запинки ответил офицер.
«Что же вы нас тут в лесу держите, если все взято и окружено?» – спросил кто-то из пленных. – «Свезли бы куда-нибудь в город, в Мурманск или Кандалакшу».
«Мы бы свезли, но дорога еще кое-где занята красными, а увозить вас по морю – еще потопят. Мы же бережем вас!» Ответ был так глуп и нагл, что измученные, голодные, едва стоявшие на ногах люди все-таки рассмеялись в глаза офицеру. На этом беседа кончилась.
В середине второй недели своего пребывания в лагере Компанеец понял, что еще несколько дней – и он не в состоянии будет передвигаться. Раз в три дня давали 200 граммов хлеба и раз в два дня – миску супа. Соли не давали, пить давали только один раз в день. Люди заживо гнили в землянках, прямо на земле, – и это в лесу, где была полная возможность самим настилать полы или хотя бы набросать веток. Но сколько ни просили немцев, разрешение на это не было получено. У раненых гнили раны, товарищи по пятому разу перевязывали их теми же самыми провонявшими бинтами.
Мысль бежать явилась у Компанейца в первый же день, но теперь он понял, что откладывать и ждать удобного случая дальше нельзя. Еще несколько дней – и он уже физически не сможет бежать, погибнет. Для побега он нашел себе товарища – красноармейца Чепеля.
К этому времени их перевели в новое место. Здесь было два огороженных проволокой котлована. В одном они спали, в другом их по утрам считали и строили на работу, а по вечерам считали и отправляли спать. Во втором котловане была полуразрушенная землянка, оставшаяся от каких-то дорожных работ. Однажды, когда уже всех посчитали, но что-то замешкались переводить в другой котлован, Компанеец и Чепель залезли в землянку и зарылись в угол ее под землю. По их просьбе товарищи закидали их сверху землей и полусгнившими досками. Едва была закончена эта операция, как замешкавшиеся конвоиры погнали всех в другой котлован.
Засыпанный землей, Компанеец слушал, как по котловану, проверяя, не осталось ли в нем что-нибудь, прошел немецкий часовой. Потом все стихло. Полумертвые от духоты и сырости, они лежали два часа, дожидаясь ночи. Они знали, что ночью пустой котлован не охранялся. В темноте Компанеец и Чепель вылезли.
– Ну, как, ты наметил план? – спросил Чепель.
– Наметил, – ответил Компанеец, – мой план простой, я три дня уже во все стороны смотрю, где меньше немцев бродит.
Чепель на минуту заколебался.
– Пропадем мы с тобой, – сказал он угрюмо. – Найдем себе могилу.
– Ничего, – ответил Компанеец, – мы уже с тобой только что из могилы вылезли, так что нам не страшно.
– Ладно, – согласился Чепель.
Они выползли, спустились по насыпи. Ночь была светлая, и, чтобы их не заметили, они 2 часа ползли по болоту, потом пошли на северо-восток, узнав направление по Полярной звезде. Добравшись до леса, увидели, что огонек лагеря уже далеко. Решили ждать солнца. Где оно взойдет, – значит, как раз туда и надо. Так они шли трое суток, все на восток и на восток по солнцу, вплавь и вброд перебираясь через горные речки, почти до потери сознания, замерзая полураздетыми в холодные северные ночи.
На вторые сутки нашли в брошенном окопе 2 финские гранаты. Теперь было спокойнее идти. Два раза по дороге перебивали черные провода немецких полевых телефонов. На четвертые сутки в глухом лесу увидели пограничный дозор.
Трудно вспомнить, как они встретились с пограничниками и какими были первые слова, сказанные ими. Помнится, будто они плакали, да кажется, так и было. А потом грелись, долго грелись в теплой землянке среди своих, русских людей.
Вот и весь рассказ, простой и обыденный. Фашистские убийцы многолики. Этот рассказ открыл мне еще одно их лицо – лицо тихого садиста, может быть, самое отвратительное из всех.
Михаил Шолохов
Военнопленные
Их батальон посадили в вагоны в Париже и отправили на восток. Они везли с собой награбленные во Франции вещи, французское вино и французские автомашины.
От Минска к линии фронта они шли походным порядком, так как автомашины были оставлены в Минске из-за отсутствия бензина. Опьяненные победами германского оружия и французским вином, они двигались по пыльным дорогам Белоруссии, закатав рукава мундиров, расстегнув воротники. Каски их были привешены к поясам, открытые потные головы сушило ласковым солнцем и теплым ветерком чужой России. Во флягах пока еще плескалось вино, и солдаты бодро шли по улицам выжженных советских деревень и громко пели похабную ротную песенку о том, что красивая француженка Жанна впервые увидела настоящих солдат и впервые вдоволь познала настоящих мужчин только тогда, когда немцы вступили в Париж.

Михаил Шолохов
Потом, днем и ночью, на марше и на отдыхе, их стали тревожить партизаны. За шесть дней батальон в перестрелках потерял около сорока человек убитыми и ранеными. Исчез посланный в штаб мотоциклист. Исчезли шесть солдат и один обер-ефрейтор. Они отправились в ближнюю деревню добыть для роты что-либо съестное и не вернулись. В батальоне все реже пели о красивой и оставшейся довольной немцами Жанне. Здесь немцами были недовольны. Жители при вступлении батальона в разрушенные деревни убегали, прятались в лесах, а те, кого заставали в жилищах, были нахмурены и смотрели в землю, чтобы скрыть от солдат ненависть к ним, светившуюся в глазах. Ненависти в случайно пойманных взглядах мужчин и женщин было больше, чем страха. Нет, это была не Франция.
* * *
Он – ефрейтор Фриц Беркманн, – если верить его словам, не принимал участия в расправах над мирным населением. Он считает себя культурным, порядочным человеком и, разумеется, решительным противником ненужной жестокости. И когда однажды подвыпившие солдаты его роты со смехом и шутками потащили в сарай молодую женщину-колхозницу, он, чтобы не слышать ее криков, ушел со двора. Женщина была молодая и сильная. Она здорово сопротивлялась, в результате чего один солдат лишился глаза. Остальные все же справились с ней. Но после того, как ее изнасиловали, окривевший солдат убил ее. Ефрейтор Беркманн, узнав об этом, был ужасно возмущен. Сам он ни за что не смог бы совершить подобной гнусности. У него в Нюрнберге остались жена и двое детей, и он не хотел бы, чтобы с его женой когда-либо поступили подобным образом. Однако не может же он отвечать за действия скотов, имеющихся, к сожалению, в немецкой армии. Когда он сообщил о происшедшем своему лейтенанту, тот пожал плечами – война есть война – и, приказал Беркманну не лезть к нему с пустяками.
Прямо с марша батальон бросили в бой. Двадцать шесть суток солдаты не вылезали из окопов. В роте Беркманна от ста семидесяти человек осталось тридцать восемь. Солдаты были удручены огромными потерями. Нет, не о такой войне с русскими думали они, когда ехали из Франции, горланя песни. Офицеры говорили им, что Россию они пройдут так же легко, как нож проходит сквозь масло. Все это оказалось хвастливой болтовней, и многие из офицеров, говоривших подобные слова, теперь уже ничего не скажут: пули русских стрелков и осколки русских снарядов прошли сквозь их тела воистину с той самой легкостью, с какой проходит сквозь масло нож.
* * *
Беркманн взят в плен сегодня утром во время нашей атаки. Перед тем как вести его в нашу землянку, красноармейцы плотно завязали ему глаза бинтом.
– Вы меня хотите расстрелять? – дрогнувшим голосом спросил Беркманн.
Но красноармейцы, не зная немецкого языка, ничего не ответили на вопрос.
На подгибающихся от страха ногах Беркманн вошел в землянку. С глаз его сняли повязку, и он, увидев мирно сидевших за столом людей, вздохнул хрипло, всей грудью и с таким облегчением, что мне стало как-то не по себе.
– Я думал, что меня ведут на расстрел, – объясняя свой невольный вздох, пролепетал пленный и тотчас стал навытяжку.
Его пригласили сесть. Он опустился на стул, положив руки на колени.
Вот он сидит перед нами, этот ландскнехт нацистской Германии, и подробно отвечает на все вопросы.
Он все еще никак не может успокоиться после пережитого волнения. Щеку его подергивает нервный тик, руки, лежащие на коленях, дрожат. Он всеми силами старается подавить свое волнение и скрыть дрожь, но это ему плохо удается. Только после того, как он с жадностью выкуривает предложенную ему папироску, к нему приходит уравновешенность.
У него светлые курчавые волосы, широко поставленные голубые неумные глаза. Он – безусловный ариец, изрядно потрепанный войной и очень голодный. В день им выдавали по три папиросы, немного хлеба и полкотелка горячей пищи. Горячую пищу не всегда можно было подвезти, и они отчаянно голодали.
Что он думает об исходе войны с Советской Россией? Он считает это предприятие безнадежным. Фюрер совершил ошибку, напав на Россию. Это – очень большой кусок, которым бедная Германия может подавиться. Здесь он, ефрейтор Беркманн, имеет возможность свободно высказать свое мнение, чего никак не мог сделать в своей части, так как члены нацистской партии засекречены и шпионят за солдатами. Всякое неосторожно высказанное слово приведет под дуло винтовки. Лично он думает, что надо было окончательно побить Англию, отобрать у нее колонии и на этом поставить точку.
Впечатления его о занятой советской территории сводятся к одному: маловато продуктов. Все, что было у населения, съели передовые немецкие части. Найти курицу счастье. Почти с ненавистью говорит он о своих танкистах и подвижных частях: «Эти скоты очищают все, после них идешь, словно в пустыне».
Тяжело говорить с ефрейтором Беркманном. От циничных слов этого грабителя в солдатском мундире, истерически болтливого и тупого, в землянке становится еще душнее, тянет выйти на воздух. Мы прекращаем разговор.
В заключение он, поднявшись и стоя навытяжку, говорит о том, что два часа назад на допросе он честно рассказал советскому командиру о расположении и численности своего батальона, штаба и о складе боеприпасов. Он сказал все, что знал, так как является убежденным противником войны с Россией. Сообщенные им сведения при проверке безусловно подтвердятся, а потому он просит дать ему возможность уведомить жену, что он находится в плену, и, если это возможно, покормить его еще, так как последний раз ему давали пищу семь часов назад.
* * *
Двадцатилетний, безусый юноша. Гладко прилизанные волосы, синие прыщи на лице и юркие, воровато бегающие глаза. Член германской национал-социалистской партии. Танкист. Был во Франции, в Югославии, в Греции. Танк его вчера в бою подорвал красноармеец связкой ручных гранат. Выскочив из машины, отстреливался. Ранен четырьмя пулями. Раны легкие. Изредка морщится от боли, но держит себя с нахальным, напускным мужеством. Отвечая на вопросы, не поднимает глаз. На некоторые вопросы категорически отказывается отвечать, но зато обстоятельно, заученными фразами говорит о превосходстве германской нации, о неполноценности французов, англичан, славянских народов. Нет, это не человек, а плохой пирог с дурно пахнущей начинкой. Ни одной своей мысли, никаких духовных интересов. Спрашиваем, знает ли он Пушкина, Шекспира. Он морщит лоб, думает, потом задает вопрос:
– Кто это такие? – И, получив ответ, кривит тонкие губы презрительной усмешкой, говорит: – Не знаю и знать не хочу. Не испытываю в этом надобности.
Он уверен в победе Германии. С тупым, идиотичным упрямством он твердит:
– К зиме наша армия разделается с вами и тогда со всей силой обрушится на Англию. Англия должна погибнуть.
– А если Россия и Англия разделаются с Германией?
– Этого не может быть. Фюрер сказал, что мы победим, – глядя себе под ноги, отвечает пленный. Он отвечает, как неумный ученик, твердо заучивший урок и не утруждающий себя излишними размышлениями.
Что-то фальшивое, неправдоподобно-уродливое есть в облике этого юноши, и только одна фраза звучит у него по-настоящему искренне:
– Жаль, что моя военная карьера прервана…
Безнадежно развращенный гитлеровской пропагандой, молодой мерзавец не устал убивать. Он только что вошел во вкус убийства, он еще не нанюхался вволю чужой крови, а тут – плен. И вот теперь он сидит перед нами, навсегда обезвреженный, смотрит глазами затравленного кровожадного хорька, и слепая ненависть к нам раздувает его ноздри.
* * *
Шесть военнопленных немецких солдат под охраной красноармейца вышли из палатки, присели на покрытую хвоей землю. Их только что привели сюда, забрав в плен. Мундиры их залатаны и грязны, у одного подошва сапог прихвачена проволокой. Они не умывались шесть дней. Этой возможности лишила их наша артиллерия. Лица их мрачны и покрыты коркой засохшей грязи. Они обовшивели, сидя в окопах, и теперь, не стесняясь, почесываются, скребут головы черными пальцами. Лишь один из них, черноволосый красивый парень, довольно улыбается и, обращаясь ко мне, говорит:
– Для меня война кончилась. Я счастлив оттого, что так удачно попал в плен.
Им приносят в котелках горячий борщ.
Как звери, набрасываются они на пищу и, обжигаясь, чавкая, почти не прожевывая, глотают торопливо, жадно. Двоим из них не принесли ложек. Не дожидаясь, когда принесут ложки, они запускают в котелки грязные ладони, пальцами вылавливают гущу и отправляют ее в рот, запрокидывая головы и блаженно щурясь. Насытившись, они встают, отяжелевшие и сонные. Коренастый обер-ефрейтор, подавляя отрыжку, говорит:
– Спасибо. Большое спасибо. Не помним, когда в последний раз мы так плотно наедались.
Переводчик говорит, что седьмой по счету пленный отказался от пищи и сейчас сидит в палатке. Проходим в палатку. Пожилой немецкий солдат, давно не бритый и очень худой, встает при нашем появлении, опускает большие мозолистые руки по швам. Спрашиваем, почему он отказывается от обеда.
Дрожащим от волнения голосом солдат говорит:
– Я – крестьянин. Мобилизован в июле. За два месяца войны я вдоволь насмотрелся на произведенные нашей армией разрушения, на брошенные поля, на все, что сделали мы, идя на восток… Я лишился сна, и кусок не идет мне в горло. Знаю, что так же разорили почти всю Европу и что за все это Германии придется нести страшную расплату. Не только этой собаке – Гитлеру, но всему германскому народу придется расплачиваться. Вы понимаете меня?
Он отворачивается и долго молчит. Что ж, это хорошее раздумье. И чем скорее сознание тягчайшей ответственности и неизбежной расплаты придет к немецким солдатам, тем ближе будет победа демократии над взбесившимся нацизмом.
«Правда», 2 ноября 1941 г.
Михаил Шолохов
Люди Красной Армии
Генерал Козлов прощается с нами и уезжает в одну из частей, чтобы на поле боя следить за ходом наступления. Мы желаем ему успеха, но и без нашего пожелания кажется совершенно очевидным, что военная удача не повернется спиной к этому генералу-крестьянину, осмотрительному и опытному, по-крестьянски хитрому и по-солдатски упорному в достижении намеченной цели.
Выхожу из землянки. До начала нашей артподготовки остается пятнадцать минут. Меня знакомят с младшим лейтенантом Наумовым, только что прибывшим с передовых позиций. Ему пришлось ползти с полкилометра под неприятельским огнем. На рукавах его гимнастерки, на груди, на коленях видны ярко-зеленые пятна раздавленной травы, но пыль он успел стряхнуть и сейчас стоит передо мной улыбающийся и спокойный, по-военному подобранный и ловкий. Ему двадцать семь лет. Два года назад он был учителем средней школы. В боях с первого дня войны. У него круглое лицо, покрытые золотистым юношеским пушком щеки, серые добрые глаза и выгоревшие на солнце белесые брови. С губ его все время не сходит застенчивая, милая улыбка. Я ловлю себя на мысли о том, что этого скромного, молодого учителя, наверное, очень любили школьники и что теперь, должно быть, так же любят красноармейцы, которым он старательно объясняет военные задачи, видимо, так же старательно, как два года назад объяснял ученикам задачи арифметические. С удивлением я замечаю, что в коротко остриженных белокурых волосах молодого лейтенанта, там, где не покрывает их каска, щедро поблескивает седина. Спрашиваю, не война ли наградила его преждевременной сединой. Он улыбается и говорит, что в армию пришел уже поседевшим и теперь никакие переживания уже не смогут изменить цвета его волос.
Мы садимся на насыпь блиндажа. Разговор у нас не клеится. Мой собеседник скупо говорит о себе и оживляется только тогда, когда разговор касается его товарищей. С восхищением говорит он о своем недавно погибшем друге лейтенанте Анашкине. Время от времени он прерывает речь, прислушиваясь к выстрелам наших орудий и к разрывам немецких снарядов, ложащихся где-то в стороне и сзади территории штаба. Прошу его рассказать что-либо о себе. Он морщится, неохотно говорит:
– Собственно, про себя мне рассказывать нечего. Наша противотанковая батарея действует хорошо. Много мы покалечили немецких танков. Я делаю то, что все делают, а вот Анашкин – этот действительно был парень! Под деревней Лучки ночью пошли мы в наступление. С рассветом обнаружили против себя пять немецких танков. Четыре бегают по полю, пятый стоит без горючего. Начали огонь. Подбили все пять танков. Немцы ведут сильный минометный огонь. Подавить их огневые точки не удается. Пехота наша залегла. Тогда Анашкин и разведчик Шкалев ползком незамеченные добрались до одного немецкого танка, влезли в него. Осмотрелся Анашкин – видит немецкую минометную батарею. Орудие на танке в исправности, снарядов достаточно. Повернул он немецкую пушку против немцев и расстрелял минометную батарею, а потом начал расстреливать немецкую пехоту. Погиб Анашкин вместе с орудийным расчетом, когда перекатывали пушку, меняя огневую позицию.
Серые глаза моего собеседника потемнели, слегка дрогнули губы. И еще раз во время разговора заметил я волнение на его лице: неосторожно спросив о том, как часто получает он письма от своей семьи, я снова увидел потемневшие глаза и дрогнувшие губы.
– За последние три недели я послал жене шесть писем. Ответа не получил, – сказал он и, смущенно улыбнувшись, попросил: – Не сможете ли вы, когда вернетесь в Москву, сообщить жене, что у меня здесь все в порядке и чтобы она написала мне по новому адресу? Наша часть сейчас переменила номер почтового ящика, может быть, потому я и не получаю писем.
Я с удовольствием согласился выполнить это поручение. Вскоре наш разговор был прерван начавшейся артподготовкой.
Грохот наших батарей сотрясал землю. Отдельные выстрелы и залпы слились в сплошной гул. Немцы усилили ответный огонь, и разрывы тяжелых снарядов стали заметно приближаться. Мы сошли в блиндаж, а когда через несколько минут снова вышли на поверхность, я увидел, что саперы, строившие укрытие, не прекращали работы. Один из них, пожилой, с торчащими, как у кота, рыжими усами, деловито осматривал огромную сваленную сосну, постукивая по стволу топором, остальные дружно работали кирками и лопатами, и на глазах рос огромный холм ярко-желтой глины.
– Не хотите ли поговорить с одним из лучших наших разведчиков? Он только сегодня утром пришел из немецкого тыла, принес важные сведения. Вот он лежит под сосной, – обратился ко мне один из командиров, кивком головы указывая на лежащего неподалеку красноармейца. Я охотно изъявил согласие, и командир сквозь гул артиллерийской канонады громко крикнул:
– Товарищ Белов!
Быстрым, неуловимо мягким движением разведчик встал на ноги, пошел к нам, на ходу оправляя гимнастерку.
Внезапно наступила тишина. Командир посмотрел на часы, вздохнул и сказал:
– Теперь наши пошли в атаку.
Было что-то уверенное в движениях, в скользящей походке разведчика Белова. Я обратил внимание на то, что под ногой его не хрустнул ни один сучок, а шел он по земле, захламленной сосновыми ветками и сучьями, но шел так бесшумно, как будто ступал по песку. И только потом, когда я узнал, что он уроженец одной из деревень близ Мурома, исстари славящегося дремучими лесами, мне стали понятны его сноровистость в ходьбе по лесу и мягкая поступь охотника-зверовика.
В разговоре с разведчиком повторилось то же, что и с другими: разведчик неохотно говорил о себе, зато с восторгом рассказывал о своих боевых товарищах. Воистину скромность – неотъемлемое качество всех героев, бесстрашно сражающихся за свою Родину.
Разведчик внимательно рассматривает меня коричневыми острыми глазами, улыбаясь, говорит:
– Первый раз вижу живого писателя. Читал ваши книги, видел портреты разных писателей, а вот живого писателя вижу впервые.
Я с не меньшим интересом смотрю на человека, шестнадцать раз ходившего в тыл к немцам, ежедневно рискующего жизнью, безупречно смелого и находчивого. Представителей этой военной профессии я тоже встречаю впервые.
Он сутуловат и длиннорук. Улыбается редко, но как-то по-детски, всем лицом, и тогда становятся видны все его редкие белые зубы. Словно ночная птица, он боится дневного света, прикрывая глаза густыми ресницами. Ночью он, наверное, видит превосходно. Внимание мое привлекают его ладони: они сплошь покрыты свежими и зарубцевавшимися ссадинами. Догадываюсь – это оттого, что ему много приходится ползать по земле. Рубашка и брюки разведчика грязны, покрыты пятнами, но эта естественная камуфляция столь хороша, что ляг разведчик в блеклой осенней траве, и его не разглядишь в пяти шагах от себя. Он неторопливо рассказывает, время от времени перекусывая крепкими зубами сорванный стебелек травы:
– Вначале был я пулеметчиком. Взвод наш отрезали немцы. Куда ни сунемся – всюду они. Мой друг-пулеметчик вызвался в разведку. Я пошел с ним. Подползли к шоссе, залегли у моста. Долго лежали. Немецкие грузовые машины идут. Мы их считаем, записываем, что они везут. Потом подошла легковая машина и стала около моста. Немецкий офицер вышел из нее, высокий такой, в фуражке. Включился в полевой телефон, лег под машину, что-то говорит. Два солдата стоят около него. Шофер сидит за рулем. Мой товарищ подмигнул мне и достал гранату. Я тоже достал гранату. Приподнялись и метнули две сразу. Всех четырех немцев уничтожили, машину испортили. Бросились мы к убитым, сорвали с офицера полевую сумку, карту взяли с какими-то отметками, часть оружия успели взять, и тут, слышим, трещит мотоцикл. Мы снова залегли в канаве. Как только мотоциклист сбавил ход возле разбитой машины, мы опять кинули гранату. Мотоциклиста убило, а мотоцикл перевернулся два раза и заглох. Подбежал я, смотрю, мотоцикл-то целехонький. Мой дружок очень геройский парень, а на мотоцикле ездить не умеет, я тоже не умею, а бросать его жалко. Взяли мы его за руль и повели. Руки он мне, проклятый, оттянул, пока я его из лесу вел, а все же довели мы его до своих. На другой день прорвались из окружения и мотоцикл прикатили. Теперь на нем наш связист скачет, аж пыль идет! Вот с этого дня мне и понравилось ходить в разведку. Попросил я командира роты, он и отчислил меня в разведчики. Много раз я к немцам в гости ходил. Где идешь, где на брюхе ползешь, а иной раз лежишь несколько часов и шевельнуться нельзя. Такое наше занятие. Все больше ночью ходим, ищем, вынюхиваем, где у немцев склады боеприпасов, радиостанции, аэродромы и прочее хозяйство.
Прошу его рассказать о последнем визите к немцам. Он говорит:
– Ничего, товарищ писатель, нет интересного. Пошли мы позавчера ночью целым взводом. Проползли через немецкие окопы. Одного немца тихо прикололи, чтобы он шуму не наделал. Потом долго шли лесом. Приказ нам был рвануть один мост, построенный недавно немцами. Это километров сорок в тылу у них. Ну, еще кое-что надо было узнать. Отошли за ночь на восемнадцать километров, меня взводный послал обратно с пакетом. Шел я лесной тропинкой, вдруг вижу свежий конский след. Нагнулся – подковы не наши, немецкие. Потом людские следы пошли. Четверо шли за лошадью. Один хромой на правую ногу. Проходили подавно. Догнал я их, долго шел сзади, а потом обошел стороной неподалеку и направился своим путем. Мог бы я их пострелять всех, но мне с ними в драку нельзя было ввязываться. У меня пакет на руках, и рисковать этим пакетом я не имел права. Дождался ночи возле немецких окопов и к утру перешел на свою сторону. Вот и все.
Некоторое время он молчит, щурит глаза и задумчиво вертит в руках сухую травинку, а потом, словно отвечая на собственные мысли, говорит:
– Я так думаю, товарищ писатель, что побьем мы немцев. Трудно наш народ рассердить, и пока он еще не рассердился по-настоящему, а вот как только рассердится, как полагается, – худо будет немцам, задавим мы их!
По пути к машине мы догоняем раненого красноармейца. Он тихо бредет к санитарной автомашине, изредка покачивается, как пьяный. Голова его забинтована, но сквозь бинт густо проступила кровь, отвороты и полы шинели, даже сапоги его в подтеках засохшей крови. Руки на локте в крови, и лицо белеет той известковой, прозрачной белизной, какая приходит к человеку, потерявшему много крови.
Предлагаем ему помочь дойти до машины, но он отклоняет нашу помощь, говорит, что дойдет сам. Спрашиваем, когда он ранен. Отвечает, что час назад. Голова его забинтована по самые глазницы, и он отвечает, высоко поднимая голову, чтобы рассмотреть того, кто с ним говорит.
– Осколком мины ранило. Каска спасла, а то бы голову на черепки побило, – тихо говорит он и все же пробует улыбнуться обескровленными синеватыми губами. – Каску осколок пробил, схватился я руками за голову – кровь густо пошла. – Он внимательно рассматривает свои руки, еще тише говорит: – Винтовку, патроны и две гранаты отдал товарищу, кое-как дополз до перевязочного пункта, – И вдруг его голос крепнет, становится громче. Повернувшись на запад, откуда доносятся взрывы мин и трескотня пулеметов, он твердо говорит: – Я еще вернусь туда. Вот подлечат меня, и я вернусь в свою часть. Я с немцами еще посчитаюсь. – Голова его высоко поднята, глаза блестят из-под повязки, и простые слова звучат торжественно, как клятва.
Darmowy fragment się skończył.