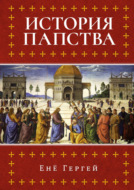Czytaj książkę: «Латиноамериканское безумие: культурная и политическая история XX века»
Посвящается Фиоре
Carlos Granés
Delirio americano. Una historia cultural y política de América Latina
Перевод с испанского Владислава Федюшина
Под научной редакцией доктора филологических наук Ю. Н. Гирина
© Карлос Гранес, 2022
© В. Федюшин, перевод, 2026
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
КоЛибри®
* * *
Исследование Карлоса Гранеса связей, определявших развитие политики и культуры на протяжении XIX и XXI веков, вызвало споры как среди правых, так и среди левых по вопросу, который восходит к началу времен: утопии создают поэты?
El Pais
Delirio americano напоминает ацтекский Камень Солнца, который автор раскручивает с головокружительной скоростью. Читатель пытается сосредоточиться на мелькающих глифах – именах основных действующих лиц, – но их так много, а скорость так велика, что вместо сосредоточения он достигает гипноза. Следить за последовательностью событий и судьбами людей в этой книге так же сложно, как с первого прочтения восстановить генеалогию семьи Буэндиа в знаменитом романе Гарсиа Маркеса. Однако, как и в «Ста годах одиночества», значение имеет не это. Заклинатель-автор разворачивает перед очарованным читателем интеллектуальную историю Латинской Америки. Проснувшись в объятьях европейской культуры, латиноамериканские поэты впервые осознают себя частью другой земли – такой странной, сюрреалистичной, неописанной и беззащитной перед угрозой утилитарных интересов североамериканцев. Ее спасение потребует от них осознания собственной идентичности, которое, грустно улыбается Карлос Гранес, будет стоить латиноамериканцам времени, крови и разбившихся надежд.
Кристина Буйнова, к.и.н., доцент кафедры испанского языка МГИМО, соавтор книги «Пять дней в Москве. Визит Марио Варгаса Льосы в Советский Союз»
Книга Карлоса Гранеса показывает в удивительно точной, барочной и, по всей видимости, единственно возможной манере, как из череды масштабных трагедий, абсурдных мелочей и драматичных будней рождается Латинская Америка, какой мы ее знаем сегодня. Это не подведение итогов, а фиксация становления. Карлос Гранес не пытается создать привычную линейную структуру с простыми логическими связями, поскольку непрост и нелинеен сам предмет описания.
Метод Карлоса Гранеса – не рационализация истории, а синхронизация с ней, постижение исторического процесса через его проживание. И его книга написана столь же неистово, парадоксально и многообразно, как неистова, парадоксальна и многообразна история Латинской Америки ХХ века.
Борис Ковалев, филолог-латиноамериканист, ассистент кафедры романской филологии СПбГУ, переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга
К читателю
1. В зависимости от того, что больше интересует вас при чтении этой книги, она может представлять собой одно большое эссе, три различных трактата, справочное пособие или краткий текст. В любом случае в конце вы найдете – или надеюсь, что найдете, – настоящее сокровище в виде знаний, данных, идей, интерпретаций и даже суждений, а под суперобложкой увидите карту, которая облегчит любой задуманный вами поиск или приключение.
2. Читателю, который не боится осилить несколько сотен страниц, я рекомендую считать, что у него в руках единая книга и, конечно же, что она стоит того, чтобы прочитать ее от корки до корки. В этом случае вы сможете изучить культурную и политическую историю долгого XX века Латинской Америки – настолько полную и исчерпывающую, насколько позволяют рациональность редактора и мои возможности.
3. Но если ваши интересы ограничиваются зарождением модерности в культуре Латинской Америки, историей модернизма и авангарда, вы можете удовлетворить свое любопытство первой частью книги. В этом случае вы прочтете трактат, анализирующий последствия империализма для латиноамериканской культуры и политики.
4. Если же вас интересует то, как происходило складывание современных государств и какую роль сыграла в этом процессе культура, то вам стоит прочитать вторую часть. В ней вы узнаете о влиянии национализма на искусство и о том, как политика может использовать деятелей культуры для создания национально-народных, популистских или модернизационных фикций.
5. Но если эти времена кажутся вам слишком далекими и вы хотите узнать, что произошло в Латинской Америке после Кубинской революции и каково было ее влияние на искусство и политику, начните с третьей части. На этих страницах вы увидите, какое влияние на культурную жизнь континента оказали Фидель Кастро и Че Гевара.
6. Но и это еще не все. Если вам наплевать на Латинскую Америку – на что, конечно, вы имеете полное право, – то вас могут заинтересовать последние главы третьей части. Они содержат рассказ о том, как типично латиноамериканские явления, такие как популизм и индихенизм1, сегодня влияют на политические и культурные практики Запада. В этом случае у вас в руках окажется небольшое эссе об изобретении и инструментализации жертвы.
7. Пятьсот страниц – это очень много, и если ничего из вышеперечисленного вас не заинтересовало, то использую последний козырь: здесь вы сможете найти ключевые фигуры латиноамериканской культуры. Просто следуйте за картой или найдите в указателе имен – Сесар Вальехо, Науи Олин, Хуан Доминго Перон, Долорес Какуанго, Гарсиа Маркес, Дорис Сальседо, Каэтано Велозу и сотни других – то, которое покажется вам интересным; вы обязательно найдете анализ, который поможет вам понять творчество и значение этой фигуры для своего времени. В таком случае вы ознакомитесь со справочным пособием о наиболее важных личностях Латинской Америки за последние 125 лет.
8. И последнее: наслаждайтесь приятной и сказочной фантазией латиноамериканских творцов, наблюдайте за ужасными последствиями мечтаний политиков и осознавайте, что ничего чистого в природе не бывает и что иногда два этих типа безумства идут рука об руку, поддерживая друг друга, как часть одной и той же цепи генетического кода.
Перед началом. Гибель Хосе Марти и прелюдия к долгому XX веку Латинской Америки
Красная луна, скользя за облаками, освещала каменистый берег. Промокшие после долгой дождливой ночи в шхуне, мужчины с нетерпением ждали, когда можно будет пристать к берегу, зайти в мангровые заросли и устроиться на ночлег. Во рту они чувствовали вкус последних капель сладкого вина из Малаги, взятого на борт накануне в Кап-Аитьене. Теперь, после остановки в Инагуа, они наконец подходили к Плайитас-де-Кахобабо. Война – еще одна война – началась месяцем и 18 днями ранее, 24 февраля 1895 года, и руководство революционной партии хотело прибыть на место, чтобы ее возглавить. Для Хосе Марти, не имевшего военного опыта, не участвовавшего ни в Десятилетней, ни в Малой войне, эта авантюра была отнюдь не просто очередным восстанием за независимость. Она была чем-то иным. Судьбой, которую он себе начертал в своих стихах.
«Прекрасна смерть, когда мы умираем / За родину и за ее свободу!»2 – такими строками заканчивается его первое произведение «Абдала» – драматическая поэма 1869 года. С тех самых пор, судя по его стихам, полным болезненных и печальных строк, он, кажется, знал, как встретит смерть. Болезнь века, это романтическое мучение, озлоблявшее душу и обострявшее перо поэтов-модернистов, бурлило в каждом его стихотворении. Но, в отличие от Хосе Асунсьона Сильвы, Мануэля Гутьерреса Нахеры, Амадо Нерво или Хулиана дель Касаля, Марти не собирался растрачивать жизнь на печали или отказываться от связи с миром. Его смерть должна была иметь смысл, его смерть должна была помочь самому насущному делу – освобождению Кубы. Марти собирался отдать свою жизнь за свободу родины.
Этот кубинец, связывавший два исторических периода и два мирочувствия, был последним романтиком и первым модернистом3: последним поэтом, сражавшимся против Испании в войне за независимость, и первым выразителем экзистенциальных метаний, которые сформируют мироощущение следующего поколения; последним, кто противостоял испанскому колониализму, и первым, кто понял, что новой угрозой для Латинской Америки станет империализм США.
Он видел это ясно, потому что после насыщенной событиями юности, на которую выпали и тюрьма, и каторжные работы, и две эмиграции, Марти много лет прожил в Нью-Йорке. С 1880 по 1895 год, работая журналистом и сочиняя стихи, благодаря которым обретет бессмертие, он вблизи видел, почти чувствовал становление империализма янки и его не такие уж тайные амбиции в отношении Карибов. Он восхищался «нацией, добившейся невиданной до сего времени свободы»4, но также понимал, что ей присущи определенные черты, вызывавшие у него огромное недоверие: чрезмерный индивидуализм, поклонение богатству, презрение к латиноамериканцам и определенная непоследовательность в отношении принципов. Последнее было страшнее всего. Марти боялся, что янки воспользуются мощью, которая досталась им усилиями нескольких поколений свободных мужчин и женщин, приехавших на их землю со всех концов света, чтобы отнять свободу у соседней страны. И не просто соседней, а его собственной – Кубы. Марти предвидел то, что в конце концов и произошло в 1898 году, уже после его смерти, и именно поэтому он решил ускорить борьбу против Испании. Своему мексиканскому другу Мануэлю Меркадо он объяснял: чтобы остановить завоевание Вест-Индии силами янки, необходимо добиться независимости. Хотя модернистское мироощущение побуждало его бежать от жизни и людей и искать убежище в башне из слоновой кости, романтическая сторона его личности вынуждала лелеять верность родине и стремление ее спасти. Именно поэтому он был там и именно поэтому был готов исполнить судьбу, предначертанную в его стихах. «И пусть страна родная / Не узнает, что я за нее умираю / Одиноко. На зов откликнусь, ибо / Я жив ради нее, чтобы служить ей, / И послужу верней всего своей смертью»5. Так и получилось.
Путь в горы начался 14 апреля. Главнокомандующий Максимо Гомес в сопровождении Франсиско Борреро, Анхеля Герры, Марти и многих других стремился установить контакт с повстанческими силами Антонио Масео, чей отряд высадился в Баракоа, в нескольких километрах к северу. Во время путешествия Марти пережил, по его словам, полное откровение природы. Он сказал себе – и позже записал это в дневнике, – что ничто не сближает людей так сильно, как эти путешествия по горам. Его восхитила встреча с отрядом вооруженных винтовками, мачете и револьверами партизан Феликса Руэна и еще больше воодушевила беседа с узнавшими его крестьянами. Некоторые называли его «президентом», ни больше ни меньше, а другие уверяли, что испанцы его боятся: это доказывало, что его труды были не напрасны. Хроники, которые он время от времени писал для газеты «Насьон» в Буэнос-Айресе, публичные выступления и политическая деятельность, а также издательские проекты – например, ориентированный на латиноамериканских детей журнал «Золотой век» – сделали его популярной и харизматичной фигурой.
В первые дни, готовясь к бою, он внимательно следил за жизнью в лагере. В дневнике он описывал, как мужчины развешивают гамаки, несут тростник на сахарную мельницу, чтобы сделать гуарапо6, или как индианка в окружении своих семерых детей очищает кофейные зерна, чтобы затем приготовить из них напиток. Марти с вниманием относился к деталям ландшафта и троп, по которым двигался. Он записывал названия каждого куста, каждого цветка, каждого дерева: кахуэйран, караколильо, хукаро, альмасиго, хагуа, гуира, хугуэ… Ему было интересно, какие крылья щекочут их листья, создавая симфонию, которую он слышал каждый день, какие крошечные скрипки наделяют душой и звуком окружавшие его растения. Было очевидно: хотя он и делал революцию, он ни на секунду не переставал быть поэтом. Более того, он делал то, что впоследствии повторят его последователи в первые годы ХХ века. Он открывал для себя американский пейзаж.
В этих лесистых горах на юге Кубы, по пути к Арройо-Ондо, он наконец столкнулся с неприятельской армией. Случилось это 25 апреля – не в день его смерти, но в день, когда он вблизи увидел ужасы войны. Издалека он слышал грохот выстрелов, крики повстанцев, внезапно превратившихся в мишени. Несколько его товарищей погибли, другие были ранены. Кубинский пейзаж оказался запятнан кровью, и это воздействие, свидетельство боли и смерти, не позволило ему радоваться победе в той первой стычке.
Отряд продолжал двигаться по диагонали к северо-западу острова. В Харагуэте, обвязав стволы деревьев лианами и накрыв их пальмовыми листьями, они разбили новый лагерь. По приговору военного трибунала был расстрелян некий Масабо, обвиненный в изнасиловании и грабеже. Обиды, предательства, ссоры: жизнь в сельве оказалась не такой, какой представлял себе Марти. Все были в напряжении; он и сам пребывал в отчаянии от того, что лидеры революции, Масео и Гомес, так и не договорились о том, как формировать правительство после победы над испанцами.
19 мая они вновь обнаружили врага. Повстанцы поспешно взялись за оружие, чтобы снова вступить в бой. Версии расходятся, и неясно, поскакал ли Марти вместе с другими офицерами, или же Максимо Гомес приказал ему ждать развития событий в безопасности. Если его действительно просили сдерживаться, пока он не овладеет военным искусством, то Марти не обратил на это ни малейшего внимания. На коне он поскакал навстречу противнику к берегам реки Контрамаэстре, за ним вдогонку бросился его телохранитель Анхель де ла Гуардиа, к сожалению не оправдавший своего имени7. Как и все латиноамериканцы, сменявшие перо на винтовку, Марти был неуклюж и неопытен. Его пыл превосходил умение, а эхо собственных стихов заглушало любые наставления боевого товарища. Если Анхель де ла Гуардиа и пытался избежать беды, то Марти не обратил на него внимания. Писали, будто он бросился в атаку, став самой заметной мишенью; раздались выстрелы, он почувствовал, как его плоть разрывают три пули: одна вонзилась в грудь, другая в ногу, последняя – в шею. Он отправился на Кубу, чтобы умереть за свою страну, и именно это он смиренно сделал, возможно, будучи счастливым, как и подобает человеку, который видит смысл только в самоотверженности и героических поступках. Через месяц и несколько дней после высадки в Плайитас-де-Кахобабо роковая судьба, о которой он так часто фантазировал, стала реальностью. Смесь поэзии и революции оставила в истории величественную смерть и создала новый латиноамериканский миф – предвестник событий будущего, когда в душах молодых латиноамериканцев разгорятся идеалы, музы и идеологии. Ведь за Марти последует множество других поэтов, мечтателей и утопистов, готовых раз за разом освобождать континент от угрожающих ему ветряных мельниц. Не знавшие меры альтруисты, они хотели привести Латинскую Америку в более благоприятные порты, к землям, освещавшимся их фантазиями и самыми необычными, спасительными, а иногда и кровавыми заблуждениями.
И вот что из этого вышло.
Первая часть
1898–1930
Континент в поиске самого себя: американизм и фантазмы авангарда
Если мечта принадлежит всем, то бред принадлежит поэтам.
Висенте Уидобро
Отвращение к жизни и другие пути к башне из слоновой кости
Весь гнев и ужас, что в груди моей
Теснятся, хочу исторгнуть. От каждого живого
Как от прокаженного бегу в смущеньи.
Корабль жизни меня измучил: я страдаю,
Как от морской болезни, проклятой жаждой,
Терзающей нутро. О, если бы возмочь
В одно мгновенье броситься в пучину!
Хосе Марти, «Весь гнев и ужас, что в груди моей»8
Казалось бы, немыслимо, чтобы поэты-модернисты, последователи Хосе Марти, могли дать увлечь себя политикой. Это верно, что устами Рубена Дарио прославлялся «новый дух», а величайшей задачей объявлялось обновление. Однако дела житейские, а еще больше – вульгарные махинации в конторах и судах вызывали у них отвращение. Повсюду, от Аргентины до Мексики, появлялась новая поросль поэтов, ценивших искренность художественной выразительности, личное чувство, свободу и полет. Они, как и молодежь всех времен, стремились к духовному возрождению; среди их лозунгов был призыв, брошенный перуанцем Мануэлем Гонсалесом Прадой в 1888 году: «Старики – в могилу, молодые – за работу!»9 Новые идеи и новые эстетические влияния приводили их в восторг. Романтизм Виктора Гюго и Байрона еще был жив, но его уже начинали теснить литературные течения, ограничивавшие риторические излишества. «Проклятый» стиль Рембо и Верлена помог им отбросить витийство и сделать стихи живее, а душевное смятение гетевского юного Вертера – понять сложную симптоматику fin-de-siècle, смесь сомнений и тревог, усталости и разочарования, которые в итоге породили новое душевное страдание: знаменитую «болезнь века». Но если для одних поэтов была характерна томность, то другие под действием виталистического и аристократического индивидуализма Ницше и Георга Брандеса были энергичными, гордыми, развязными. Модернизм конца XIX века сочетал несочетаемое: болезненную экзистенциальную тоску – и эротическую силу; одержимость блестящим, утонченным и неземным – и вкус к редкому, экзотическому, восточному и далекому; крайнюю идеализацию классической древности с ее мраморами, богами и легендами – и более поздний интерес к американскому пейзажу.
Если мексиканец Мануэль Гутьеррес Нахера задавался вопросом о смысле жизни в трагических стихах – «И это бытие, что нам дано, / В котором пребываем, – / Оно нам суждено? / Заслужено ль оно? / Не зря ли жизнь мы проживаем?»10, – то уругваец Хулио Эррера-и-Рейссиг закрывался в своей «Башне панорам», где кропал восторженные гимны индивидуализму – прелюдию к авангардным манифестам 1920-х годов. «Один и наедине с собой! – говорит он в «Декрете». – Я провозглашаю литературную неприкосновенность моей личности […]. Мне докучает, что иные критики суетятся и заискивают передо мной […]. Оставьте богов в покое!»11
Хулиан дель Касаль и Амадо Нерво писали скорбные стихи о жизни и смерти, а колумбиец Хосе Асунсьон Сильва, певец меланхолии и смерти, поддерживает в своих стихах все тот же мрачный и скорбный тон: «Зачем ничтожной жизнью, без цели, мы живем? / И ждет ли нас оазис в пустыне сей бескрайней? / Зачем мы родились? Зачем же мы умрем? / Зачем? Ответь, родная, утешь печаль поэта!»12 Далекий от всех этих тревог уроженец Веракруса Сальвадор Диас Мирон претендовал на некий художественный аристократизм: «Ничтожества! Вас раздражает / Дыхание свободное возвышенной души / И в своей злобе, что из страха возникает, / Глумитесь вы над полоненным, перед которым пресмыкались»13. Были и дерзкие модернисты, авантюристы, с удовольствием вступавшие в споры и восхвалявшие любого латиноамериканского деспота, – например, перуанец Хосе Сантос Чокано, – и виталисты другого типа, как венесуэлец Руфино Бланко Фомбона, который в своих стихах утверждал, что лучшие песни – это песни о любви, а «лучшая поэма – это жизнь»14.
Все эти различные личностные качества и вариации мотивации подходят под один ярлык – ведь модернизм, в конце концов, нес на себе отпечаток романтизма. Чтобы понять, что сделали эти испаноамериканские поэты и, конечно, авангардисты, необходимо помнить, что романтизм был совершенно модерным движением, возникшим в оппозиции к современности. То была мятежная и критическая тень, брошенная на рационализм и технику, на прогресс и промышленность. Темный, непостижимый, иррациональный, теллурический, радикальный, подрывной, интуитивный, сладострастный и упадочнический свет, противостоявший ясному и определенному свету науки и разума. Если мысль Просвещения очищала сущее от мифов и суеверий, упорядочивала и классифицировала его, то романтизм наполнял его странными образами, эмоциональными связями с землей, не поддававшимися рациональному контролю импульсами, виталистическими порывами и экзистенциальными проблемами. Вот почему к романтизму относятся как юношеская сила и бодрость Рубена Дарио или Эрреры-и-Рейссига, так и лихорадочная слабость и меланхолия Амадо Нерво. Так же романтичны были буйство, конфликт, индивидуализм и насилие Сантоса Чокано или Диаса Мирона, так же романтична была гармония с природой, растворение «я» в высших порядках или наркотиках и ускользающие фантазии Хулиана дель Касаля. Романтичным было как разрушительное, экзотическое и ужасное, так и привычное, обычное и сельское. Как чувственность Дельмиры Агустини, так и мистицизм Гутьерреса Нахеры. Древнее, историческое, глубокие и непостижимые истоки – и революция, новое, мимолетное мгновение. Сила, воля и жизнь – с одной стороны, психологические мучения, пытки и самоубийство – с другой. Исайя Берлин добавил к этому списку еще один элемент. Романтическим было как искусство ради искусства, к которому изначально стремились модернисты, так и искусство как инструмент общественного и национального спасения, к которому вели их начинания.
Они были противоречивы и романтичны – да, но прежде всего универсальны и космополитичны. По крайней мере, на первом этапе, до той великой травмы 1898 года, изменившей геополитику континента, Латинская Америка не имела для них большого значения. Их целью был второй Ренессанс – «Вселенский собор человеческого разума»15, как назвал его колумбийский поэт и критик Рафаэль Майя, – способный объединить лучшие плоды человеческих мысли и чувств. Пока тирании сменяли друг друга в правительственных дворцах и на полях сражений, пока каждые четверть часа вспыхивали революции, поэты отрицали реальность, рисуя под торжественными и грандиозными фронтисписами далекие миры. «Я ненавижу жизнь и время, в которые мне довелось родиться», – сказал Рубен Дарио в прологе к «Языческим псалмам», а затем сбежал от того и другого и стал писать о греческих богах, кентаврах, блеске Флоренции, французской тоске, восточной роскоши или грации менад, наяд и сатиров. Боливиец Рикардо Хаймес Фрейре, еще один аристократ духа, чтобы скрыть реальность своего существования под покровом артистизма и героизма, населил стихи «Варварской Касталии» драконами, гидрами, эльфами, феями, скандинавскими богами и чудовищами. Противоречивый Леопольдо Лугонес пошел еще дальше, признавшись в предисловии к «Лунным песням» в своем увлечении луной, которое привело бы в ужас его современника, футуриста Маринетти: «Было ли в мире более чистое и трудное занятие, чем петь луне из мести к жизни?»16
Стихи модернистов изобиловали крыльями и полетами; орлами, бабочками и лебедями. Это новое поколение знало о Париже больше, чем сами парижане, чувствовало себя в Греции как дома и больше разбиралось в фантазиях о классическом полисе, чем в Метапе, Такне, Монтевидео или Боготе. Они были избранными, аристократией чувства и мысли, которая на континенте, лишенном интеллектуальных традиций, общалась с лучшими плодами человеческого воображения. «Почему мы должны закрывать свою душу от всего, что может ее обогатить?» – спрашивал себя Бланко Фомбона17. Так оно и было: они ни от чего не отказывались, потому что именно им надлежало обновить жизненные источники, возглавить новые эстетические поиски, наставить молодых людей в нравственных и духовных вопросах. Несмотря на артистическую элитарность и презрение к рутине и практическим вопросам жизни, в итоге они попадали в парламенты, жили на жалованье дипломатов и поражали образованных читателей журналистскими репортажами. Уклоняясь от всего реального, они непременно несли тайную антенну, ловившую волны актуальной политической жизни и кругов, где тасовались колоды власти.
Это стало очевидно в 1898 году, когда США присоединились к борьбе Кубы за независимость, победили Испанию и утвердились в качестве новой имперской державы в Карибском бассейне. То был решающий момент, момент, когда башня из слоновой кости, в которой укрылись поэты, начала трескаться. Все лопнуло, как мыльный пузырь: парижские фантазии, тоска по миру классической древности, декадентская богема, – и перед их глазами предстала политическая реальность Латинской Америки. Марти предвещал это: нас подстерегают янки; и это предсказание, как и предсказание его собственной гибели, сбылось. Теперь поэтам не оставалось ничего, кроме как выйти на площадь, наполнить свои стихи гневом и возмущением, диатрибами и лозунгами. Удивительным образом новый антиимпериалистический пыл способствовал соединению искусства и политики, и важнее всего, что в Латинской Америке это произошло раньше, чем в Европе. Испаноамериканские модернисты опередили первый европейский революционный авангард – итальянский футуризм, – первый рык которого раздастся только в 1909 году. И – обратите внимание на совпадение – тоже в ответ на угрозу со стороны империи, в данном случае Австро-Венгрии. Итак, если футуристы стали самыми радикальными защитниками новой итальянской нации и идентичности, которой были свойственны скорость, динамизм и воинственный пыл, то модернисты стали возвеличивать то, что ранее игнорировали, – американскую реальность – и объединять человеческие и природные элементы континента, чтобы возвести эстетическую и моральную плотину, которая остановит притязания янки. Начиналась новая война, которая будет происходить уже не в морях Карибов, а в области культуры, и целью ее станет демонстрация превосходства латинского духа над утилитарным варварством североамериканцев.