После революций. Что стало с Восточной Европой
Tekst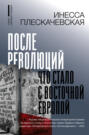


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 540 str. 35 ilustracji
- Kategoria: historia najnowsza, publicystyka, socjologia
Венгрия. Кубик Рубика на берегах Дуная
Венгры и все остальные
Венгрия – остров. Нам куда ни посмотри – везде родственники: въезжаешь в Польшу и ловишь знакомые слова и звуки, многое понимаешь интуитивно, а когда просишь говорить помедленнее, понимаешь еще больше. Говоришь по-белорусски – и тебя почти понимают. Та же история в Чехии и Словакии – понимаете друг друга меньше, но слух постоянно улавливает знакомые слова. Не удивительно: мы же родственники, славяне.
С Венгрией история совсем другая: приезжаете сюда и понимаете, что ничего не понимаете. Ни на слух, ни на взгляд: речь звучит незнакомо, интонации другие, вывески выглядят чуждо. Осознать это не просто, но тем не менее: со всех сторон она окружена славянскими и германскими народами, а финно-угорские родственники живут за тридевять земель. Эта уникальность имеет важное (чтобы не сказать – решающее) значение для понимания Венгрии и венгров, лелеющих свои культуру, традиции и историю. Одна из первых вещей, которая бросается в глаза в Будапеште, – количество памятников: усатые мадьяры на конях и без, люди со знаменами и пушками, венгры, рассекающие воздух саблями. Улыбающийся Рональд Рейган выглядит в таком окружении немного странно, но и он здесь есть. Памятник советским воинам, освобождавшим Будапешт, поддерживается в прекрасном состоянии. Что не мешает венграм считать «трагедию на Дону» национальной катастрофой: это когда в январе 1943 года под Воронежем погибло от 120 до 148 тысяч венгерских солдат и офицеров – половина армии. Траурные мероприятия проходят каждый год. Но если о своей трагедии венгры говорят охотно и эмоционально, то на вопрос о том, что делали венгерские военные на Дону и вообще в Советском Союзе, отвечать не любят. Почему – понятно: они воевали на стороне Третьего рейха, и это не то, чем можно гордиться.
Для понимания Венгрии история имеет огромное значение. Вот, например, у меня с ней почти прямая, хотя и отдаленная по времени, связь. Я родом из Гомеля. А Гомель с его дворцово-парковым ансамблем, которым мы гордимся, принадлежал генерал-фельдмаршалу Ивану Паскевичу. В 1848 году в Венгрии (тогда входившей в империю Габсбургов) вспыхнуло восстание, которое по призыву австрийского и поручению российского правительства отправился усмирять как раз Паскевич. Николай I напутствовал его словами: «Не жалей каналий!». Он и не жалел. Паскевичем в Гомеле принято гордиться: он действительно много сделал для нашего города и края, но вот венграм о моем землячестве с душителем их свободы лучше не говорить: пепел восставших до сих пор стучит в их сердца. Я это поняла, когда руководитель партии «За лучшую Венгрию» («Йоббик») Габор Вона в ответ на вопрос о венгерской мечте сказал, что мечтает о нации, «о которой другие говорят: “Да, это сильный народ”. Такой вид признания и одобрения – моя мечта. Например, в 1848–1849 годах по всей Европе было множество революций, Венгрия продержалась дольше всех. В то время один ирландский политик опубликовал статью о том, что Ирландия должна брать пример с венгров, которые выжили и продолжали бороться, пока это было возможно». «Нам, венграм, часто ломали хребет», – признает народный художник Ливиус Дюлаи. Правда, никто из венгров не скажет, что и они – да, случалось! – ломали хребет другим.
Недалеко от памятника советским воинам несколько лет назад установили памятник «Жертвам немецкой оккупации 1944–1945». И тут же разгорелась дискуссия на тему: а была ли Венгрия «просто жертвой»? Если вспомнить «трагедию на Дону» – нет, была союзником гитлеровской Германии. Рядом с этим памятником возник стихийный мемориал Холокосту: из Венгрии были депортированы, в основном в Освенцим, почти полмиллиона евреев.
Венгрия привыкла рассчитывать на себя и свои бойцовские качества, которые, надеется, не растеряла в сытой жизни. Чтобы ее понять, «островное» мышление учитывать нужно обязательно. До сих пор я относила это к британцам и японцам, но венгры тоже из этого странного островного племени. Может быть, даже более странного, чем британцы с японцами. Потому что вокруг венгров моря, как и родственников, нет. Исторически они всю жизнь защищают южные границы Европы. Хорватию, например, многие венгры и сегодня воспринимают как часть себя: не говорите им о том, что у Венгрии нет моря – они тут же вспомнят, что было, до Трианонского договора.
Стороннему человеку трудно понять Венгрию, если он не знает о тяжелом национальном комплексе под названием «Трианонский синдром». Трианонский договор был подписан 4 июня 1920 года по итогам Первой мировой войны между странами-победительницами и проигравшей эту войну Венгрией. В результате договора Венгрия, до войны входившая в Австро-Венгерскую империю (которая, между прочим, была второй самой большой в мире славянской империей после России), потеряла две трети своей территории и более половины населения – они отошли другим странам. Именно играя на «несправедливом Трианоне» и уязвленных чувствах венгров, как до того на уязвленных чувствах немцев, и обещая вернуть потерянное, Гитлер привлек Венгрию на свою сторону: за 1938–1940 годы Венгрия вернула некоторые «свои» территории в Чехословакии, Югославии и Румынии, не вступая с ними в прямой вооруженный конфликт. Но потом воевать пришлось, и по итогам Второй мировой войны Венгрия – опять проигравшая сторона – потеряла свои бывшие территории окончательно. Это долго аукалось: лидер легендарной рок-группы «Омега» Янош Кобор признался, что группе никогда не разрешали выступать в Трансильвании, которая была венгерской до того, как стала румынской. Статуи правителей Трансильвании до сих пор украшают фасад венгерского парламента, а в его залах висит исторический флаг Трансильвании.
Вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак рассказывал мне о работе основанного им Народного университета Лакителека. Вот проводят там, например, кинофестиваль, на котором представлены фильмы из шести стран. Но фестиваль международным не считается, потому что все его участники – этнические венгры, после Трианона живущие в сопредельных странах. Венгерское правительство активно поддерживает свою диаспору – настолько, что иногда это вызывает международные конфликты. Несколько лет назад тогдашнего лидера партии «Йоббик» Габора Вону правительство Румынии хотело объявить персоной нон грата за позицию по Карпатской Рутении. Как показал проведенный компанией Pew Research в начале 2020 года опрос, 67 % венгров согласны с заявлением: «Некоторые части территории соседних государств на самом деле принадлежат нам».
В мае 2020 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, решив подбодрить студентов перед экзаменами, разместил в социальных сетях карту «Великой Венгрии», какой она была накануне Первой мировой – с теми ее частями, которые сегодня входят в состав Румынии, Сербии, Словакии и Хорватии. Совпадение или нет, но буквально в тот же день парламент Румынии проголосовал против того, чтобы в Трансильвании венгерский стал официальным языком.
Практически все венгры, с которыми мне довелось разговаривать о свободолюбивом национальном характере, приводили в пример «революцию» 1956 года. Кровавая драма: сначала повешенные на столбах коммунисты с вырезанными звездами на груди, а потом расстрелянные или повешенные по приговору суда «бунтовщики». Венгры и сегодня уверены, что жертвы были не напрасными: «Зато у нас после 1956 года было больше свободы, чем в других социалистических странах». Это действительно так: после 1956-го в Венгрии были элементы рыночной экономики, которых ни у какой другой страны социалистического лагеря не было. Период с 1956 до 1989 года, когда Венгрией руководил Янош Кадар, до сих пор называют «гуляшный коммунизм». А лидер мегапопулярной в свое время не только в Венгрии, но во всей Европе рок-группы «Омега» Янош Кобор удивляется тому, как легко в кадаровской Венгрии было заниматься рок-н-роллом. До падения Белинской стены Янош Кадар не дожил: умер в мае 1989-го. Может, оно и к лучшему.
На прошедшем в 1989 году митинге по случаю перезахоронения героя восстания 1956 года, казненного премьер-министра Имре Надя, 26-летний выпускник Будапештского и Оксфордского (стипендию в который он получил от Фонда Джорджа Сороса, более известного на родине как Шорош Дьёрдь) университетов Виктор Орбан требовал вывода советских войск. Через два года они ушли, а Орбан сделал блестящую политическую карьеру: первый раз стал премьер-министром в 1998 году, когда ему не было и 40, но продержался один срок. Второй раз Виктор Орбан возглавил правительство Венгрии в 2010 году. Через два года ему удалось провести через парламент (где у его партии «Фидес» было конституционное большинство – две трети мест) новую Конституцию. В ней закреплено новое официальное название – Венгрия (в переводе «Государство венгров», до того была Венгерская Республика). Кстати, в стране живет всего 1,5 % иностранцев, да и то две трети из них – этнические венгры, что делает Венгрию одной из самых моноэтнических стран Европы. Точно – остров. Новая Конституция начинается словами «Боже, храни венгров», говорит, что венгерский народ объединяют «Бог и христианство», а брак определяет как «союз между мужчиной и женщиной». Государство обязуется защищать жизнь, которая, как указано, начинается с момента зачатия (аборты официально не запрещены, но процедура максимально усложнена). Да, большинство венгров – верующие (премьер Виктор Орбан никогда не стесняется сказать вслух, что христианин: сам кальвинист, а жена и дети – католики), а о пользе христианского образования, которое «начинает приносить плоды», говорил мне и вице-спикер парламента Шандор Лежак. А когда через два года после первой встречи мы приехали посмотреть, как работает Международный переводческий лагерь при основанном им Народном университете, наш обед начался с молитвы.
И еще немного о свободолюбии. Именно венгры, по словам «канцлера воссоединения» Гельмута Коля, «вынули первый кирпич из Берлинской стены»: в 1989 году Венгрия открыла первый канал массовой эмиграции восточных немцев в ФРГ, фактически упразднив границу с Австрией. Как вспоминал накануне 30-летия этого события тогдашний премьер-министр Миклош Немет, венграм и австрийцам в конце июня 1989 года пришлось даже восстанавливать 200 или 300 метров границы с положенными атрибутами: забором и колючей проволокой. Потому что физически границы уже не было, а министры иностранных дел Австрии Алоиз Мок и Венгрии Дьюла Хорн решили провести торжественную церемонию по ее устранению. После этого десятки тысяч восточных немцев через территорию Австрии устремились в Западную Германию, эти дни вошли в историю как «Европейский пикник». Но в тот момент никто даже и подумать не мог, признавался потом Немет, что Берлинской стене оставалось жить всего несколько месяцев. В 1999 году Венгрия вступила в НАТО и стала главным плацдармом для бомбардировок Югославии.
В общем, противоречивая это страна – Венгрия. Но очень интересная.
Отец-основатель современной Венгрии
Учитель, поэт, а потом и политик Шандор Лежак – личность в современной Венгрии легендарная. Почти вся его жизнь связана с деревней Лакителек (население около 4,5 тысяч человек) в 120 км от Будапешта: Лежак работал здесь учителем начальной школы с 1969 по 1985 год. Писал стихи, поэмы, тексты к рок-операм (!) и получал за свое творчество не только любовь читателей и зрителей, но и литературные премии. А в сентябре 1987 года на его даче в Лакителеке собрались более 150 представителей оппозиционной интеллигенции – обменяться мнениями о ситуации в стране и обсудить возможности выхода из кризиса, который для всех был очевиден. «Мы могли бы совещаться и в обстановке секретности, – говорил во время нашей встречи Лежак, – но не собирались создавать подпольное движение, переходить на нелегальное положение, потому что думали, что должны озвучить наши взгляды, поскольку находимся у себя дома и несем ответственность за все, что происходит с нами и вокруг нас». Впоследствии из этой встречи вырос Венгерский демократический форум – правоцентристская партия с национально-консервативной христианской идеологией, которая победила на первых свободных выборах в 1990 году. Избирательной кампанией тогда занимался именно Лежак.
Сегодня Шандор Лежак – вице-спикер парламента Венгрии, основатель и один из руководителей Народного университета Лакителека. Работая над проектом, который превратился в эту книгу, я встречалась с ним дважды. Первый раз – в парламенте, импозантном здании на берегу Дуная, наполненном историей и символами. Венгры своим парламентом очень гордятся, и совершенно справедливо. Между прочим, это третье в мире здание по площади, а в самой Венгрии – первое. Очевидно, что архитектор Имре Штейндль (большой, кстати, любитель неоготики, что сразу заметно) вдохновлялся британским парламентом, но привнес в него родные черты: мне его башенки напоминали головные уборы длинноусых мадьяр на конях и с саблями, разбросанных по улицам Будапешта.
По венгерскому парламенту можно гулять бесконечно, восхищаясь сводчатыми потолками, росписями (везде – легко прочитываемые национальные мотивы) и – особенно! – видом на Дунай и Буду, который открывается с балкона депутатского ресторана. Интересные нюансы: в коридорах парламента (если вам захочется назвать их коридорами власти, будете правы: они такие и есть, Шандор Лежак вырвался буквально на полчаса из зала заседаний, чтобы встретиться с нами) до сих пор сохраняют и даже начищают до блеска специальные держатели для сигар, хотя курение в здании запрещено. Печать истории: когда-то чуть не каждый депутат курил и, отправляясь в зал заседаний, мог оставить свою сигару в специальном пронумерованном держателе. Сигар давно нет, а сверкающие держатели остались.
Но все это, конечно, не главное. Главное – Святая корона, выставленная в специальном зале под главным куполом парламента. Высота шпиля 96 метров, в память о 896 годе, который считается годом основания нации, – тогда предки современных венгров пришли из Предуралья в Карпатский бассейн, чтобы остаться здесь навсегда. Фотографировать корону категорически запрещено (но копию, выставленную в церкви Святого Матьяша – пожалуйста), по бокам – охрана в исторической униформе. Святая корона для венгров настолько серьезный символ нации, что упоминается в Конституции: «Мы чтим достижения исторической Конституции и Святую корону, в которых воплощается перманентность конституционной государственности Венгрии и единство нации».
Разговор с Шандором Лежаком мы начинаем с того самого собрания в Лакителеке, которое оказалось знаковым для страны.
– Как вы чувствуете себя в роли «отца-основателя» современной Венгрии?
– Я назвал бы себя очень удачливым, потому что был участником и организатором тех событий, обрел таких соратников, с которыми мы смогли создать новую политическую силу, думающую о благе нации, направленную на разрушение тогдашней системы. В кругу политологов и историков, занимающихся историей недавнего прошлого, выработалось однозначное мнение о том, что первая встреча в Лакителеке в 1987 году была судьбоносной. Социалистическое партийное государство и его коллаборационистские союзники уже подготовили переход, который отвечал их интересам и гарантировал сохранение власти. Но созданный в Лакителеке Венгерский демократический форум не дал этому осуществиться.
– Позиция Венгрии и «Европейский пикник» сыграли немалую роль в падении железного занавеса и в том, что в социалистических странах произошли революции. Какие в 1989-м были ожидания и мечты? Осуществились ли они?
– В Венгрии конституционный порядок имеет давнюю традицию: именно у нас родилась вторая конституция в Европе, «Золотая булла» 1222 года. И не забывайте, что именно мы показали пример всему миру в 1568 году, когда законодательно закрепили право исповедовать и практиковать любую религию. С 1944 года сначала немецкая, а затем советская оккупация на десятилетия приостановила действие конституционного порядка. «Сталинскую» конституцию 1949 года мы смогли изменить только в 2011 году, когда при парламентской поддержке в две трети голосов приняли новый Основной закон. Он провозглашает, что браком является союз между мужчиной и женщиной, декларирует защиту семей от непосильного груза коммунальных платежей, защищает будущие поколения от попадания в финансовую зависимость, и охраняет объекты общенационального достояния. В самом начале 1990-х мы верили, что быстро сумеем достичь высокого уровня жизни – такого, как в западноевропейских странах. Но это оказалось невозможным. Надеялись мы и на скорейшие темпы построения правового государства, демократии и экономики, опирающейся на реальный, свободный и конкурентный рынок, надеялись на создание справедливого общества. Но это процесс гораздо более медленный и длительный. Он – увы! – не происходит по мановению волшебной палочки, это упорная и трудная работа, которая нередко сопровождается политическими баталиями и принятием непопулярных решений.
– Что удалось, а что нет?
– За прошедшее время Венгрия преобразилась в корне: страна живет на принципах демократии, гражданского общества и верховенства закона, основанных на национальных и христианских ценностях, в системе Европейского союза и НАТО. Мы смогли мирно перейти от социалистической диктатуры к системе буржуазной демократии, но заплатили за это высокую цену. Но и ее смогли принять. Двенадцать лет у власти были партийные функционеры советского типа, которые в лучшем случае топтались на месте, а во многих областях пытались вернуть все к старому. Сегодня венгерская экономика на подъеме, растет ВВП, укрепляется конкурентоспособность. Венгрия – одна из самых привлекательных стран региона для инвестиций, значительно расширяется промышленное производство, венгерские компании занимают ведущие позиции на мировом рынке информационных технологий. Венгерское сельское хозяйство остается одним из лучших в мире. Благодаря снижению коммунальных тарифов, повышению зарплат и практически незаметному росту инфляции в последние годы улучшилось благосостояние людей. Так что мы смогли достичь демократизации государственной власти, добиться свободы совести и вероисповедания, социальной защищенности всех слоев общества, активизировали деятельность самоуправлений. И что еще я считаю очень важным: наши соотечественники в Карпатском бассейне вновь ощущают единство с нацией. Что не получилось, так это достичь уровня благосостояния стран Евросоюза, хотя многие из нас очень на это надеялись.
– Какие главные проблемы в Венгрии сегодня?
– Любое развитие влечет определенные трудности, столкновения интересов, и с этой точки зрения Венгрия не исключение. В наши дни самыми большими вызовами являются глобализация и вопросы, связанные с Европейским союзом. Рост экономики после 2010 года обеспечил нам место в верхней части списка европейских стран со средним уровнем жизни, так что у нас нет причин для недовольства. К сожалению, два с половиной миллиона человек живут за чертой бедности.
Два с половиной миллионов – это почти четверть населения страны. Так что не будем обольщаться.
– Как вам видятся следующие 25 лет: к чему Венгрия будет стремиться в экономике, социальной сфере и внешней политике? Существует ли особый «венгерский путь»? Если да, то в чем он заключается?
– На рубеже тысячелетия объединившаяся вокруг Народного университета в Лакителеке интеллектуальная элита организовала дискуссионный форум о том, в каком направлении мы движемся и чего ожидаем после 2020 года. Большинство были единодушны в том, что нельзя автоматически копировать практику западноевропейских стран. Мы предложили больше сознательности, меньше экономических колебаний свободного рынка, единство и солидарность базовой медицины, бесплатное образование, защиту семей с детьми. И мы всегда настаивали на необходимости своего, венгерского, пути. Мы могли бы называть «венгерским путем» то, что в банковской сфере государство стремится к тому, чтобы хотя бы 50 % было в руках отечественных собственников. Главным стремлением Венгрии остается создание такого современного эффективно работающего государства и общества, которое способно, с одной стороны, отвечать современными методами на новые вызовы, с другой – с гордостью хранить исторические и культурные традиции, свое наследие. Наша цель – добиться устойчивого роста постоянно развивающейся, растущей, модернизированной экономики, достичь как можно более высокого уровня жизни, сравнимого с западным. Венгерский путь означает ориентацию на национальные ценности и центральную роль венгерского человека. И путь этот, еще не проторенный, большая для нас ответственность. Мы должны переносить клевету и ложь отечественной оппозиции, к тому же из Евросоюза мы получаем незаслуженные и возмутительные оценки. К этому невозможно привыкнуть, но можно закалиться.
– В социалистическом блоке большинство стран, по сути, не были полностью самостоятельными ни во внешней, ни даже во внутренней политике. Сейчас, когда Венгрия стала членом Европейского союза, часть полномочий также передана наднациональным органам. Какие есть сходства и различия в несамостоятельности тогда и сейчас? Некоторые европейские политики называют Венгрию «трудным ребенком Евросоюза», а премьер-министра Виктора Орбана «диктатором» – почему? Насколько это трудно – отстаивать национальные интересы внутри ЕС?
– Тут нужно сразу сказать про важное отличие. При коммунистическом режиме у нас не было выбора. Советская оккупация после Второй мировой войны означала диктат и в области внешней политики, которой полностью управляли из Кремля. Москва решала вместо некоторых «союзников», как это было в случае военной оккупации в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии. В отличие от этого, страны ЕС и НАТО могли принимать решения о членстве в этих организациях и о том, какую часть своего суверенитета делегировать в органы совместного управления, самостоятельно и без принуждения. Все государства-члены могут участвовать в разработке, формировании и воплощении совместной политики на равных, представляя свои национальные интересы. Огромное значение имеет то, что важные решения, касающиеся суверенитета, принимаются консенсусом, каждая страна обладает правом вето, чего не было ни в Варшавском договоре, ни в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ). Ну, и ни для кого не секрет, что сегодня все государства отказываются от какой-то части суверенитета, когда вступают в международные организации. Что касается политики Венгрии внутри ЕС, я не стал бы называть нас «трудным ребенком». На самом деле Венгрия заинтересована в состоящем из сильных национальных государств и эффективно функционирующем Европейском союзе. Я считаю, что Венгрия привносит новый подход в отношения внутри ЕС, он базируется на следовании национальным интересам и их решительной защите. Да, временами это ведет к трудным спорам, но другого пути нет: в ЕС происходит представление национальных интересов, их согласование и столкновение. Такой подход, и это уже очевидно, завоевывает все больше сторонников, и в какой-то степени является противовесом представлениям левых сил о конфедеративном европейском государстве. Что касается наших «диктаторских» методов: давайте будем исходить из того, что, если какие-то средства являются более эффективными, чем более привычные прежние, это не значит, что они диктаторские. В этой позиции я в значительной степени вижу естественное человеческое неприятие нового. Время это потом поправит. Главное в венгерской модели и наших «неортодоксальных» методах то, что правительство обложило налогами не людей, а ввело отдельные налоги на банки и транснациональные компании. Эту практику, кстати, все больше применяют и в других странах. При этом дефицит бюджета у нас снизился. Снизился и уровень безработицы.
Тенденция роста ВВП выше среднего сохранялась в Венгрии достаточно долго: в 2021-м он составил 7,1 %, в 2022-м – 4,6 %. Венгерская экономика действительно росла быстрее, чем в среднем по Европе, при этом корпоративный налог здесь остается самым низким в ЕС – 9 %. Но итог 2023 года оказался неутешительным и для Венгрии: ВВП сократился на 0,7 %.
– Существует ли венгерская мечта? – спрашиваю Шандора Лежака. – Какая она?
– Я поделюсь своей венгерской мечтой. Это образованная нация, живущая в духовном и материальном благополучии, уважающая и сохраняющая традиции и христианскую культуру, сохраняющая единство без границ внутри ЕС. Именно такая Венгрия сейчас формируется – внутри и вокруг нас. Я хочу, чтобы моя Венгрия последовательно представляла свои интересы на международной арене, заслуживала уважение и признание своей продуманной и ответственной позицией, и чтобы ее слово имело вес в европейской и международной политике.
Надо сказать, что Шандор Лежак не просто мечтает о такой Венгрии, он активно работает над тем, чтобы именно такой она и была. И как бывший учитель он точно знает, что начинать нужно с образования. Он основал Народный университет Лакителека, где есть средняя школа, гимназия, многочисленные курсы. Помните, я рассказывала, как проходит кинофестиваль, на котором представлены фильмы из шести стран, но он не считается международным, потому что все режиссеры – этнические венгры? Это тоже про Лакителек.
Через два года после первой встречи с Шандором Лежаком в парламенте я приехала по его приглашению в Лакителек, где в течение нескольких недель был открыт Международный переводческий лагерь, в котором работали несколько секций: театральная, художественного перевода и языковые – белорусская, казахская, монгольская и русская. Дело, которое затеял Шандор Лежак, растет и ширится, превратившись из частной инициативы в государственную программу. В нашу первую встречу он говорил: «Сейчас правительство поддерживает нас, вложило 10 млрд форинтов в реконструкцию в Лакителеке. Мы каждое здание ремонтируем». Ведь в этом лагере Венгрия растит друзей. В первую очередь, конечно, для своей страны. В один из вечеров учили танцевать венгерские танцы. Все организовала жена Шандора Лежака, причем не только организовала, но и сама, в традиционном венгерском костюме, танцевала в общем кругу. Так здесь продвигают венгерскую культуру и заводят неформальные знакомства для будущего. Ведь кто знает, кем станут сегодняшние студенты завтра?
– Скажите, – спрашиваю у Лежака, – если мы говорим о воспитании и образовании детей. Когда оно было лучше – при социализме или сейчас?
Смеется: – Сейчас.
– Почему?
– Есть, например, прекрасные школы, где замечательно воспитывают детей, есть чудесные семьи, в которых своих детей воспитывают очень хорошо. Когда встречается такая чудесная школа и такие чудесные родители, получается великолепный результат, тогда из этой школы выходят дети, которые открыты Европе, но которые сохраняют настоящие христианские ценности. Такие школы, которые воспитывали на христианских ценностях, наконец-то появились в 1990-е годы, а сейчас начинает проявляться это влияние. Понадобилось 20–25 лет для того, чтобы учителя и образование учителей – то есть то, как они будут преподавать – изменилось. Мы считаем, что именно сейчас происходит то, что приведет к очень здоровым, очень правильным изменениям в мировоззрении людей. Было принято много законов, которые поддерживают эту политику. Например, был принят закон о хунгарикумах, это поддержка своего, национального. Это те вещи, которыми гордится страна. Это относится буквально ко всем моментам – и к мыслительно-умственной деятельности, и к физическому состоянию, это сочетание тела и ума. Главное, что мы всегда считаем, что в каждом ребенке есть хорошее, есть ценность, которую нужно уважать и развивать. И моя обязанность – моя и моего окружения – вызвать из детей вот это ценное. И как раз наш Народный институт – один из тех источников, которые питают такое воспитание и дают возможность почувствовать успех.
Когда вы думаете о Венгрии, какие ассоциации у вас рождаются? Гуляш, чардаш и стаканчик токайского? Совершенно правильные ассоциации, венгры будут ими довольны. Они составили целый список уникальных венгерских продуктов, причем не только материальных, и назвали его «Хунгарикум» (от Hungary, Венгрия) – именно о нем говорит Шандор Лежак.
Движение за «хунгарикум» началось в 1999 году, когда четыре венгерские, но известные во всем мире компании – фарфоровый завод «Херенд», производитель салями «Пик», торговый дом «Токай» и производитель ликера Unikum – объединились в клуб Hungarikum, чтобы сообща продвигать свою продукцию. Как лучше всего это делать? Правильно: убедить, что она единственная в своем роде. Салями ведь в Европе делают многие, но и среди них есть «хунгарикум»: будапештская «Херц» и сегедская «Пик», вы их узнаете по налету белой плесени. «Хунгарикум» – это паприка (без нее венгру никуда), кечкеметские персики, сатмарские сливы и свиньи породы «мангалица», это вышивка и халашские кружева, это даже Эрнё Рубик, изобретатель знаменитого кубика имени себя, которым вы, вероятно, увлекались, – как и миллионы людей по всему миру. Венгры, живущие в своей стране как на острове посреди Европы, умеют ценить, беречь и лелеять родное. Знакомый этнический венгр из Закарпатья, обосновавшийся несколько лет назад на исторической родине, рассказывал, что, когда учил венгерский язык в школе на Украине, Венгрия платила ему (я не ошиблась: платили ему, а не он) почти 200 долларов ежемесячно – чтобы не забывал корни и культуру. У традиции беречь свое давняя история: первая кампания «Покупай венгерское!» прошла в 1844 году. Проводило ее «Общество защиты отечественной промышленности», которое организовал знаменитый венгерский журналист и политик Лайош Кошут. Сейчас его имя носит самая престижная национальная премия в области культуры. Так что традиция эта не сегодня родилась, но только сейчас оформилась законодательно.
– Национализм важнее, чем интернационализм? – допытываюсь у Лежака.
– Я не знаю, что делать с этими понятиями. Это совершенно нормально, если человек, родившийся в стране, говорящий на этом языке, должен здесь чувствовать себя хорошо. И задача правительства – обеспечить ему условия, чтобы он чувствовал себя на родной земле хорошо. Права любого человека распространяются только до носа другого человека. То есть это означает, что мы можем действовать и выразить себя только когда мы взаимодействуем с другими людьми, в более узком или широком смысле этого слова. Национальное государство должно усиливать союз национальных государств, и именно поэтому наш Европейский союз именно об этом и говорит – что каждое государство должно усиливать другое.
