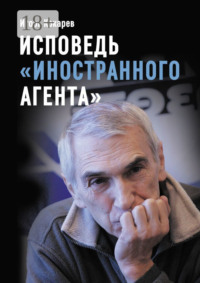Czytaj książkę: «Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет», strona 3
Настоящим оказался поход, затянувшийся почти на месяц, в течение которого моя лодка 614-го проекта куда-то шла под водой, по ночам заряжала батареи, высунув гусиный нос из-под волн, потом замирала на заданной глубине, выполняя какие-то таинственные приказы. В это время требовалось соблюдать абсолютную тишину, казалось, было слышно, как борт царапают какие-то стальные щупальца. Было ужасно холодно, так как в целях экономии энергии отопление и освещение были отключены кроме нескольких аварийных лампочек. Команде запрещалось передвижение за пределы своих отсеков. Оставаться на боевых постах, разговаривать шёпотом, в туалет ходить по разрешению, еду получать на месте сухим пайком и в свободное от вахты время просто лежать на койках, завернувшись в суконное тонкое одеяло. От одних этих приказов было не по себе.
Домой возвращались тоже скрытно, лодка всплыла только на траверзе Балаклавы, и команда, высыпав на палубу, облегченно отливала уже в родное Черное море. На берегу мы узнали, что там, на поверхности над нами, мир в эти дни стоял на грани ядерной войны, а мы выполняли боевое задание в районе Карибского моря. Впрочем, о чем я? Это же была военная тайна. На дворе стоял октябрь 1962-го…
Так и не осознав масштабов исторической драмы, безвестным участником которой нам, курсантам – выпускникам ОВИМУ, суждено было стать, вернулся младшим лейтенантом запаса к мирным делам в комсомоле. Впрочем, не только мирным. Кто знает сегодня, что такое БСМ, бригада содействия милиции? Ну, или «легкая кавалерия»? Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на ночное патрулирование на Приморском бульваре и внизу, в районе порта и Пересыпи. Наши клиенты – фарца и проститутки. Одесса город портовый, соблазнов хоть отбавляй.
В моих советниках – бывший уголовник Володя М., асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером будут меня ждать заказанные люди в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.
Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:
– Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье – в будущем? А моё – здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!
И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед голой, бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.
И все же главное – Дворец студентов. Как тяжелые волны, бились страждущие толпы в тяжёлые дубовые двери на концерты и танцы. Популярной стала библиотека, где собиралась литературная молодежь, потом возникла даже студия, состоявшая из разных поэтов от Леонида Заславского, Бориса Вайна, до Лёни Мака и Юрия Михайлика, которых уже после моего отъезда рассорит навсегда какая-то неприятная история.
Официальная поэзия, представленная в городе-герое поэтом старшего поколения Виктором Бершадским, здесь отсутствовала. Зато появился новый жанр – дискуссионный клуб, и о дискуссиях тут же отозвался Жванецкий хлесткой миниатюрой. Здесь ставились студенческие капустники, выступал симфоджаз Евгения Болотинского, зарождалась команда одесского КВН.
В уютном полумраке нашего фойе с диванами я впервые услышал грустный «Последний троллейбус», открывший что-то человечное, дремавшее где-то глубоко в душе под гимнами и маршами. Весенним ветром из Москвы занесет к нам и самого Булата Окуджаву. Тогда, организуя его концерты, я смотрел на притихший зал, и, может быть, впервые чувствовал что-то более глубокое и важное, чем светлое будущее, за которое отчаянно билась с невидимым врагом наша великая держава.
А еще была у нас изостудия, которую как-то по особому вела Зоя Ивницкая, жена главного художника Русского драмтеатра Михаила Ивницкого. Про эту студию отдельный рассказ. Валерий Цымбал, студент политеха влюбился в очаровательную, тихую и застенчивую Зою. Она была не только женой известного в Одессе художника, но и старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. В ужасе метались его партийные родители:
– Игорь, вы должны с этим что-то сделать! Это же аморально!
А Валера пер на меня и стучал кулаками в грудь:
– Стари-и-к, я теряю сознания от счастья, как они не понимают? Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.
Зоя мне доверяла:
– Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, как никто. Это наше счастье.
Валера виртуозно шил себе брюки. И они действительно влито сидели на его тонкой фигурке. Мама с папой – обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя что-то в нем поняла и подготовила его к поступлению в знаменитое ленинградское Мухинское училище, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Со второго курса его забрили в армию, так как в Мухинском не было военной кафедры.
Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Доучился. Халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области.
Иркутский драмтеатр пригласил его художником. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. Успел жениться на однокурснице, она родила ему чудную девочку. Уже в перестройку они оба улетят в Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе после смерти мужа окажется и его Зоя. Зоя напишет прекрасную добрую книгу про театрально-художественную Одессу, посвятит ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому и умрет в 92 года в своей маленькой квартирке в Вест Голливуде среди друзей и учеников…
А Валера будет шить на заказ костюмы для олимпийских чемпионов, бывших советских танцоров на льду в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтонскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер возненавидит. Верная жена Мила будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми американцами. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. О чем мечтаешь теперь, Валера?

Я забреду к ним на Брайтон Бич спустя каких-то 50 лет…
– Стари – и—к! Как только получим паспорта – сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.
– А зачем же паспорта ждать?
– Ты чо? А вдруг операция? Я что, ее в России буду делать?
Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми. А потом Валера вернется в Питер и там скончается, так и не увидев перед смертью свою первую безумную любовь…
Кто бывал на Дерибасовской, знает кафе «Алые паруса». Мы дали обычному учреждению общепита это гриновское имя и убедили Горком партии освободить первое в стране молодежное кафе от пресловутого финплана. Освободили! И так теперь получилось, что по одной стороне Дерибасовской утюжили тротуары бичи, портовая Одесса, а на другой стороне, на углу Екатерининской в «Алых парусах» собиралась творческая молодежь вроде неуёмного Даниила Шаца, драматурга и заводилы. Он, никогда не видавший заграницы, так описывал Париж, его бульвары и улицы, кафе и музеи, что становилось как-то неловко за советскую власть. Вот с кем всегда было о чем поговорить…
Одессу в те годы любили навещать московские журналисты, писавшие об одесской вольнице. Одним из них был Александр Асаркан, легендарный корреспондент «Литературной газеты». Тогда я еще не знал о его гулаговском прошлом, но чувствовал какую-то драму в его облике. Небрежно одетый и элегантно циничный, равнодушный к еде и комфорту, без возраста, но в морщинах, без столичного высокомерия, он открыл мне «Современник» и «Таганку», а о кино говорил, как о высоком искусстве, чем-то напоминая Владимира Николаевича Турбина, совсем недавно прочищавшим мои мозги по дороге из Одессы в Кишинев.
Саша будет писать из Москвы на разрисованных вручную почтовых открытках. А во время Первого Всемирного Форума молодежи вытащит в Москву, приютит в своей каморке темной коммунальной квартиры в Замоскворечье, а кофе пить приведет в Артистическое кафе, что в проезде Художественного театра. С ним всюду пускали, и мы сидели рядом с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Татьяной Дорониной, Олегом Ефремовым. Он о чем-то их расспрашивал, а они, в свою очередь, бесцеремонно рассматривали его спутника в морской форме.
Был среди них и шутник, студент института восточных языков Игорь Ицков, который зарабатывал тем, что на коленке сочинял какую то халтуру на антиколониальные темы, и продавал её как переводы стихов своих сокурсников из Азии и Африки. Поразил тогда меня его веселый цинизм, да и вся эта атмосфера насмешливого отношения к вещам для меня все еще серьезным.

Явление свободы в таком преобразовании казенных открыток

Вот она, та статья Володи Белова… Фрагмент. Но самый лестный.
Володя Белов, московский обозреватель журнала «Театр», ловивший в одесском театральном сезоне пульс свободы, пытал меня с журналистским пристрастием пока мы бродили с ним по весенней Дерибасовской, Пушкинской, по Приморскому бульвару.
Кусок той статьи Володи об Одессе в журнале «Театр» пришлет мне не сам автор, а Асаркан, причем тем же оригинальным способом – наклеенную на почтовой открытке. Из нее я узнал, «что девчонки, проходя мимо, оборачиваются и долго смотрят вслед», а также, что я «не из числа скучающих и равнодушных». Что правда, то правда. Журнал «Театр» мне в руки не попался, а открытка сохранилась на всю жизнь.
А Володя отправит в Одессу Аду, свою воспитанницу. Попросит показать ей мою Одессу. Написал: «Она о тебе уже знает».
Красивая, успел отметить я, а она усмехнулась, заметив оценивающий взгляд, и сказала:
– Володя утверждал, что ты заблудившийся романтик революции.
Ада оказалась внучкой Сергея Лазо, и я теперь смотрел на нее, живого потомка героя гражданской войны с восторгом и боялся прикоснуться. А что она думала тогда обо мне, когда мы катились с ней кубарем по крутому склону Отрады к пляжам? Может быть, мелькнул где-то образ комиссара в сером шлеме? Я тогда еще бредил революцией.
Не знаю, знала ли она о том, что через 8 месяцев после ХХ съезда советские танки вошли в Будапешт? Я не знал. Осенью 1956 года Хрущев жестоко подавил венгерскую революцию против сталинского режима установленного там после победы над фашистской Германией. Не знал я, как и все в Одессе, и о жестоком расстреле рабочих по приказу Хрущева в Новочеркасске в ответ на повышение цен в 1962 году. Потому и оставался наследником комиссаров из песни Окуджавы.
Спустя годы мы снова встретимся, уже в Москве, во ВГИКе. Ада станет сценаристкой и женой режиссера. Мы будем общаться по профессии и так просто. И почему-то никогда не вспоминать о том лете в Одессе.
Оно, кстати, было и последним в моей одесской комсомольской карьере, которая оказалась короткой. Хорошо, выговора не схлопотал за свои инициативы, но в партию меня тогда так и не приняли. Не той крови…
Единственный из аппаратчиков, кто сочувственно, с пониманием относился ко мне, был зав. отделом идеологии Петр Кондрашов, человек внимательный, умный, осторожный. Я всегда приходил сначала к нему с очередной идеей за одобрением. Он насмешливо спрашивал:
– Когда ты угомонишься, Кокарев?
Годы спустя мелькнет Петр в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии где-нибудь в Латинской Америке. Или в Африке.
– Слушай, ты знаешь, что Снигирев телегу на тебя накатал Бельтюкову? – спросила как-то меня Люба, пышнотелая наша смешливая секретарша. Она недавно родила, и ее соски сочились мокрыми пятнами через платье.
Я отвел глаза:
– За что, спрашивается?
– А за то, что ты ни разу не был в первичных организациях, ни на одном заводе.
– Так они у меня все здесь, в Горкоме почти каждый вечер! Что мне делать на заводе?
– Ну, смотри. Как знаешь. – И она все-таки прижалась ко мне своей плотной, выпирающей грудью. А кляузу липкого, как Урия Гип, Снигирева, она куда-то затеряла, не дошла телега до Бельтюкова.
Я чувствовал, что меня как-то прикрывал и пенсионер-чекист из комиссии старых большевиков в горкоме партии. После того бюро по Дворцу студентов, он иногда тормозил меня в обкомовской столовой и, внимательно глядя из-под нависших седых бровей, спрашивал:
– Как, брат, борьба с мировым злом продолжается?
Михаил Карлович Волховышский. Кто его знает, что скрывал он в своем прошлом, но ко мне Волховышский присматривался, видимо, чтобы убедиться, что они делали все правильно, и мы продолжим их дело. Ага.
Бурлила Одесса 60—х молодым задором Дерибасовской, Ланжерона и Аркадии, веселилась в подвальчике у «Бабы Ути», шумно встречала возвращавшуюся с путины китобойную флотилию «Слава», звучала мелодиями Дунаевского из «Белой акации» в исполнении любимца публики Водяного, радовалась победам футболистов «Черноморца», атаковала иностранных туристов прилипалами-фарцовщиками. Позже назовут нас поколением хрущевской оттепели, шестидесятниками, детьми ХХ съезда, хотя настоящие шестидесятники были все же там, в Москве, они понимали свое значение. Или в Питере в среде рокеров и завсегдатаев знаменитого «Сайгона». У нас все было скромней и естественней.
Так же бесцеремонно, как выслали из страны строптивого поэта Лёню Мака, так секретарь обкома КПСС Синица, проходя мимо «Алых парусов» и услышав рок-н-ролл, запретил это безобразие лично. Осталось от парусов одно название.
В одесском горкоме приоткрылись мне тайные пружины советской партийной власти. Банкеты на весь рабочий день в рыбацких совхозах Отрады и Люсдорфа в так называемых инспекционных поездках с милицейским начальством неприятно поражали. Столы, накрытые на свежем воздухе, полны деликатесов. Коньяк, водка – вина не жаловали, дамский напиток. Нас льстиво поит и кормит местное начальство. Знак уважения или дань? Жду разговоров о деле, о цели приезда. Что-то не слышно. Так в чем суть «инспекции»? Впервые тогда где-то внутри шевельнулось подозрение, что тут что-то не так. И уже не мог избавиться от неловкости за избыточность привилегий и благ, недоступных тем, кому мы обязаны служить.
У меня на столе тоненькая книжечка – телефонный справочник для служебного пользования с именами и отчествами должностных лиц в Горисполкоме, Горкоме партии, Горздравотделе, ГОРОНО, Жилищно-коммунальном хозяйстве, милиции. Волшебная книжка для тех, кто принимает решения в городе. Эти имена известны только нам и только мы можем решать важные вопросы телефонным звонком. Это и есть так называемое телефонное право, применяемое вместо закона. И все бумаги на моем столе секретны, для служебного пользования. И осторожность, как бы чего не ляпнуть, неписаные правила. Какие? Почему? Есть, что скрывать?
Тайна власти упорно ускользает от меня. Не понять, какими путями эти посредственности с дурным характером становятся властью над нами. Они и крутят ее шестеренки, выполняя команды, спущенные откуда-то свыше, не то из Киева, не то из самой Москвы.
А заседания бюро горкома партии, больше похожие на инквизицию? Сидят по обе стороны длинного стола члены бюро, только что не в мантиях, судят чем-то провинившихся. И теряли сознание здоровенные мужики, лишенные партбилетов. Знали дальнейшее…
Проходная сила спецпропусков в страну номенклатурного всемогущества и изобилия спецбуфетов, гробовая тишина коридоров Обкома в красных дорожках, служебные машины и тринадцатая зарплата с путевкой в санаторий Четвертого управления, и услужливость, подобострастие всей чиновничьей рати. Как, когда, почему это все выстроилось в систему, прочную, как небесный свод?
Чем больше задумывался, тем темней казалась мне вообще всякая власть. Эта встроенная в общество тайная сила убедила людей в своем праве распоряжаться их жизнью, даже жертвовать ею по ее, власти, усмотрению. О, эта сладкая, полная скрытых привилегий жизнь египетских жрецов, надувающих щёки… И я здесь был, мед-пиво пил. полагая, что участвую в приближении светлого будущего.
Но сколько веревочке не виться… Это случилось в Горкоме партии, располагавшемся на втором этаже того же увесистого здания возле железнодорожного вокзала. В просторный кабинет первого секретаря по фамилии Лисица я ввалился прямо с поезда, с фибровым спортивным чемоданчиком в трикотажных рейтузах-трениках с пузырями на коленках. Спешил поделиться со старшим товарищем важными мыслями о необычном Днепропетровском Дворце культуры, откуда можно много взять и заодно добиться увеличения бюджета Одесского Дворца студентов для новых молодежных программ по типу днепропетровских.
И вдруг из глубины своего необъятного стола с телефонами, оглядел Лисица меня гнойным взглядом, как обыскал с ног до головы, и цыкнул, подавшись вперед, как на шавку:
– Куда пришел в таком виде, сопляк? Это Горком партии, а не Привоз. А ну, вон отсюда!
Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, пока доходило, горячая краска заливала лицо и шею. Не нашелся, что ответить и ушёл, пятясь, тихо притворив за собой тяжёлую дверь, не смея взглянуть на секретаршу. Думала ли эта лисица, что убивает сейчас человека, которого хотела вырастить и таки вырастила его партия? Я верил картине Серова «Ходоки у Ленина». До этого дня.
Цинизм кучки посредственностей, создавших свой остров изобилия в море всеобщей нужды и унылой покорности, не хотелось переносить на всю партию. Наверное, мне попались не те коммунисты. Пройдет целая вечность, пока жизнь своими жерновами перемелет зерна веры-идеологии в муку сомнений, и горький вывод большого русского писателя Виктора Астафьева: «Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна…» станет горбушкой хлеба, что испечется из той муки… И жевать мне ту горбушку и жевать, пока мы не сделаем того, что давно получилось у людей во всем Западном мире: поставим эту власть под контроль.
Через полвека, когда уже независимая Украина захочет вступить в Европейский Союз, это серое здание у вокзала станет страшной западней, где трагически погибнут после неудачного нападения с битами на толпу одесских футбольных болельщиков засланцы, какие-то сепаратисты. Они не разбегутся в разные стороны, а направляемые кем-то добегут и закроются в пятиэтажном чреве, как в крепости. И будут бросать с крыши заготовленные коктейли Молотова, пока в здании не вспыхнет как бы сам собой пожар. Погибнут десятки людей, потому что ни милиции, ни пожарников рядом не оказалось.
А официальная Москва использует эту провокацию как доказательство зверств украинских фашистов и бандеровцев… Но я-то видел, как это все начиналось на Соборной площади и чем кончилось аж у вокзала. Видел в режиме реального времени на многочисленных видео очевидцев с места событий.
Прошла молодость, а с ней и краткие шестидесятые. Нет уже кафе на Дерибасовской угол Екатерининской с чудным названием «Алые паруса». Нет и Горкома в той каменной громаде у железнодорожного вокзала. И двор, где родился, кажется маленьким, едва вмещающим воспоминания… Но тянет туда занозистая память, живет в далеком уголке души свободный дух оттепельных скоротечных лет.
Брожу по Одессе, ласкаюсь к камням…
Да здесь я, да здесь я! – шепчу я ветвям.
Бреду, спотыкаясь о мягкий асфальт…
Мой голос не тенор, не бас и не альт,
Мой голос… Пусть стены услышат мольбу! —
Я жить без тебя не могу, не могу!
Глава 2. Прости, батя
В одной руке диплом инженера-механика судовых силовых установок, в другой – заявление об уходе:
«Прошу направить на работу по специальности.» Какая смелость, однако. Надеюсь, мотористом я особой опасности для безопасности судна не представляю.
Бельтюков подписал заявление, кажется, тоже с облегчением. На его круглом лице ничего не отразилось. Так расстаются с ненужными вещами. Потом я сдал их волшебную красную корочку – удостоверение инструктора Горкома комсомола, вспомнив напоследок, как оно работало.
Дело было в Москве, на Зубовской, где сестра приютила меня на несколько дней командировки. Из этого ветхого деревянного строения забрала меня милиция за избиение ее ревнивого мужа. Не бил я его, конечно. Просто когда увидел замахнувшуюся на сестру руку, поднял его за воротник и выбросил в закрытую дверь. Дверь выпала вместе с ним на улицу. Тщедушный орал, рвал на себе одежду и звал милицию.
У меня забрали паспорт, уволокли в отделение, сунули в клетку, как бродягу без прописки. Очнувшись, я на всякий случай показал дежурному через решетку мое удостоверение Одесского Горкома. Дежурный уставился на красные корочки, заморгал всеми глазами:
– Так что ж вы сразу не сказали, Игорь Евгеньевич?
И все сразу изменилось. Меня с извинениями доставили обратно к сестре, а в камеру затолкали его, психа трусливого. Так ему и надо, думал я, но сестра задала мне еще ту трепку. Тут волшебный мой документ не помог…
Ладно, обойдусь как-нибудь. Главное, я кое-что узнал в этой жизни, чего не ведают другие. Пригодится.
На пассажирском лайнере «Литва» буду ишачить мотористом, зарабатывать стаж для рабочего диплома механика. В пропахшем горячим маслом машинном отделении время меряется не днями и ночами, а вахтами по четыре через восемь. А недосягаемая соотечественникам и всегда почему-то солнечная и теплая заграница открывается урывками и издалека, когда мы носимся в пятерке таких же охотников за шмотками по дешевым магазинам специально для советских моряков. На остальное ни времени, ни разрешения. Известны и места на борту, где прятать от таможни контрабанду – модные плавки, отрезы, шариковые ручки, блузки на продажу. Если свой не заложит, за короткий двухнедельный рейс можно годовую зарплату перекрыть. Моряки загранплавания были вполне обеспеченными людьми в Одессе.
«Литва» ходила короткими рейсами по портам Средиземного моря: ночью – переход, днем – стоянка. Стамбул с запахами жареной рыбы на причалах, Латакия с солнечными длинными пляжами, Хайфа с ее висячими садами, шумная Александрия с египетской экзотикой, золотой Бейрут с уличными базарами, Фамагуста с легендарным замком Отелло, древние Афины, зеленоводый Дубровник с крепостной стеной и прозрачными бухтами – что успевает увидеть человек, носящийся с высунутым языком по давно известным адресам?
«Литва» германской постройки, кстати, тоже заграница: немецкая мебель салонов, полумрак баров с иностранными бутылками, голубой бассейн, сауна, импортная музыка, не говорящие по-русски блондинки в шезлонгах. Пожилых глаз как-то не замечал, болезнь юности. Вокруг все новенькое блестит чистотой и медью, пока не свинтит дверные ручки, краны, унесет туалетную бумагу, посуду, бокалы советский турист на внутренних рейсах. Тогда ободранное судно поплетется в Болгарию на ремонт, зализывать раны… По весне – все сначала.
В Средиземном море жарко, в малюсеньких четырехместных каютах без кондиционера делать нечего, только спать. Спим на двухъярусных койках, завернувшись в смоченные под краном простыни. Успеть заснуть, пока они не высохли. Проснулся, и сразу вон из душегубки в рай на палубы к бассейну. Туристы в городе, можно загорать.
Моя вахта «собачья», с 4-х ночи до 8-ми утра. Отстоишь, примешь душ, поспишь до 12, и гуляй до 4-х дня. После обеда снова в машину до 8-ми вечера. Потом душ, ужин с командой, и вечер твой. Не очень засвечиваясь, проникаешь в бары, и жадные до приключений одинокие пассажирки отдаются прямо в танце.
Года хватило, чтобы одуреть от этого разврата. В отделе кадров удивились, но просьбу удовлетворили и отправили на танкера. В Хиросиме, на верфи Мицубиси вскоре уже ползал под пайолами только что выстроенного для СССР танкера серии «Л» – «Луганск».
Всюду автоматика и лабораторная чистота. Гигант в 64 тысячи тонн дедвейт, это водоизмещение. Два главных двигателя в 20 тысяч лошадей и два огромных винта дают до 32-х узлов, это 60 км в час. Акулы не угонятся. Длина корпуса – 217 метров, по палубе можно на мотоцикле гонять. Лифт – на восемь палуб. У каждого члена экипажа каюта с иллюминатором, с душем и кондиционером. На верхней палубе бассейн, волейбольная площадка, настольный теннис, гири, штанга.
На пишущей машинке от старпома запоминаю Страну Восходящего солнца, девушек из Нагасаки, про которых сочинила нам песню Вера Инбер, сочиняю свою Японию, выжившую после американской атомной бомбардировки, следов которой не нашел. Американская музыка в барах, английская речь на улицах. Быстро заживают раны в стране самураев.
Жизнь японской улицы – скороговорка. Несутся из метро на работу и рассасываются по дороге. В полдень в сотнях окон поднятые вверх руки – обязательная физзарядка. И снова за работу. Работа для них – не наша с перекурами. После 6-ти вечера выбегают в рассыпную из всех дверей. Как насосом, их всасывает метро. Четкий ритм этого огромного организма поражает. Вот нам бы такой народ, жили б уже в коммунизме. Только в таком жить не захочется.
Лучи осеннего японского солнца ласкают загорелое тело. Бассейн маленький, но глубокий. А слабо ласточкой с вентиляционной трубы? Высота метра три, глубина бассейна – два. Вхожу в воду почти плашмя, руками успеваю оттолкнуться от дна. Никто повторить не решался. И хорошо. Кому нужны сломанные шеи?
Второй помощник капитана, однокашник Валера Борисов хвастается покупками:
– Смотри, чем комсостав подтирается!
Впервые вижу рулоны нежнейшей туалетной бумаги. Интересно, а куда они газеты девают? Играем на спор партию в настольный теннис. Я ставлю комплект пластинок Поля Анка. Он – рулоны. Проигрываю.
– Заходи, дам подтереться.
Дружно жили, весело. Put your hand on my shoulder…
Наконец, прошли ходовые испытания. Прилетела из Москвы остальная команда, всего нас теперь 57 человек. Капитан подписал документ о приемке, и «Луганск» взял курс на Сингапур. Прощай, Япония! Каждый везет сбереженную валюту до Сингапура. Там, говорят бывалые, есть знаменитый «малай базар». Сингапур, город без тени, солнце в зените, жара за сорок – уже на траверзе. Бросили якорь. Стали на рейде.
И вдруг… Радист принял экстренное сообщение: сегодня, 22 ноября 1963 года в Америке убит президент! Убит Джон Кеннеди. Задержан убийца – Ли Харви Освальд, говорят, американец, подготовленный в СССР. Нас не выпускают с рейда, капитан со старпомом таможенным катером доставлены в полицию. А мы тут при чем? Бред какой-то. Ну, сбросить атомную бомбу, это мы можем, это понятно. Но убить президента? Мы же не дикари какие-то!
Тем временем наше судно атакует тот самый «малай-базар». Как пиявки, присасываются к бортам десятки джонок, летят вверх из них стальные крюки, цепляются на фальшборт. И по шкотам быстро карабкаются и лезут на палубу, не обращая никакого внимания на нас, темнокожие проворные малайцы. Быстро-быстро теми же крюками втаскивают тюки с товарами. Так же молча и шустро огораживают свои делянки, разбрасывают прямо на палубе плавки, майки, рубашки, джинсы, пестрые женские кофточки, обувь. И уже идет бойкая торговля. Я стою, раскрыв рот.
Наглый малаец сует мне колоду карт:
– Гоу, – говорит, – туалет!
Кому туалет? Зачем в туалет? Мельком вижу – это порно картинки, они жгут руки, стыдно глаза поднять. Бросаю их прямо на тряпки. А по трапу уже поднимаются живьем они, юность планеты. Идут, играя бедрами, навстречу нашим жадным взглядам. Ой, что делать?
– Каюта? туалет? Мне очень нужно, сэр! – передо мной длинноногое, открытое любви загорелое тело. Оливковые ее глаза насмешливо смотрят прямо в душу.
Опять? Дался им этот туалет! К себе? В каюту? Как вести себя в подобных случаях, ччерт!! Ну, впущу, а дальше? Что с ней делать? Даже угостить нечем…
Сигнал громкой связи выводит из ступора:
– Внимание экипажа! Всем свободным от вахты выдворить шлюх с судна!
Какое облегчение. И вот они уже дисциплинировано спускаются по трапу, всем своим видом показывая, чего мы лишились.
– Russian оnanist! – я уже слышал эти обидные выкрики от европейских красоток вдоль узкого Кильского канала в Балтийское море. Мы единственные во всем мире, кому не разрешены их соблазнительные услуги. Но онанизмом мы не занимались, как ни странно. Кто-то говорил, судовой врач бром в компот подливал…
Командование вскоре вернулось на борт. Войны, кажется, не будет. Шипшандер уже доставил на борт запасы продуктов, палубная команда подняла якоря, и «Луганск» взял курс на Южную Америку. Плывет стальная громадина, не тонут ее шестьдесят четыре тысячи тонн, как ни странно. А вокруг океан до горизонта и такое же, без границ, синее небо. В Атлантике погода штилевая, идем ходко, 23 узла. Это под сорок км в час, как авто. Только белый буран за кормой. В машинном отделении прохладно, кондиционер работает бесшумно. На приборах трепещет стрелками напряженная жизнь судового сердца. Делать на вахте нечего.
Стакан рислинга после обеда (положено на экваторе!) и загорай до вахты, думай о смысле жизни, готовься в аспирантуру… Только учебники, захваченные с собой в рейс, валяются не открытыми. Здесь мы другие. Аргонавты мы. С виду нормальные граждане, а на деле аргонавты, сшивающие своими кругосветками, как пенистыми нитками города и страны. Туда-сюда, стежки такие белые за кормой. Но след исчез, и нитка порвалась. Не всякий годен для такого. Постепенно истлеют и порвутся связи с прошлой береговой жизнью, забудутся увлечения, вычеркнут тебя из телефонного списка твои знакомые, перестанут ждать близкие, а когда вдруг вернешься, и разговаривать будет не о чем.
Большой мир где-то там, а ты, загорелый и просоленный, появишься мельком на берегу, набросишься на эту ускользающую от тебя жизнь, припадешь к ней, как умирающий от жажды к источнику, напьешься, промотаешь зарплату и… отвалишь. Снова в море! А если задержишься, будешь томиться на берегу, даже заболеешь, выбитый из привычной колеи судового расписания, не зная, как жить иначе, чем по четыре через восемь…
Бразилия началась с того, что ночью на рейде у порта Сантос нас ограбили. Пока перекачивали нефть бортом к борту в маленький местный танкерок, поднимая осадку для входа в мелководье, шустрые бразильцы забрались в наши спасательные мотоботы и обобрали их под чистую. Капитан махнул рукой: ладно, чего мелочиться? Братская помощь третьему миру.