Преодоление зависимого поведения: зависимым и их близким (родственникам, педагогам)
Tekst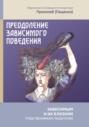


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1070 str. 4 ilustracje
- Kategoria: literatura o duchowości, psychologia ogólna, chrześcijaństwo
Начинается напряженный поиск выхода из ситуации. Во время поиска выхода выясняется, что контакт с детьми потерян вот уже как несколько лет (многие годы?) назад.
Вскрываются и иные проблемы. Супруги вдруг выясняют, что давно уже перестали понимать друг друга и друг к другу охладели, просто за отсутствием серьезных проверочных ситуаций этот факт удачно маскировался под «усталость после работы». Период первых реакций на проявившийся кризис: истерики, бессонные ночи. Попытки решить проблему механически: «да перестань же ты наконец (принимать наркотики, хамить, относиться безразлично и т. д. и т. п.)!».
Поначалу речь может идти не столько о самом желании решить вскрывшиеся проблемы, сколько, скорее, о злости на ребенка, что своими проблемами он нарушил привычное течение жизни. Потом злость проходит, да и то, скорее, только потому, что ее наличие делает проживание ситуации совсем уж невыносимым. Ломка привычного образа жизни, обращение в клиники, отправка ребенка за границу, полоса страданий, ломка всего уклада жизни. Преодолевается то, что выше было обозначено как иммунитет к изменениям (нежелание ничего менять).
Погруженные в трясину быта, двигающие в русле уже привычного алгоритма, заменившие общение на ругань и переставшие даже замечать эту подмену, люди сталкиваются с прямой и на первых порах просто ошеломляющей их невозможностью оградить себя от необходимости изменений. С криками, с протестами, но их «телега с несмазанными колесами и заржавевшими болтами» все-таки сдвигается с мертвой точки.
Многие родители успевают к данному периоду обрасти теориями, оправдывающими и вроде бы как обосновывающими их образ жизни. И вот наступает такое положение дел, при котором и далее делать вид, что теории справедливы, нет никакой возможности. Капсула, в которую люди добровольно заперли себя, нещадно разламывается молотом извне.
Некоторые впервые обращаются к Богу, начинают молиться. Кто-то начинает держать свой первый в жизни Великий Пост. Многие родители впервые после угасшей в молодости любви друг к другу начинают смотреть друг на друга любящими глазами. Сердце, с которого молот сбил коросту, вновь, как в годы совсем юной юности, начинает открываться для жизни, любви.
Столкнувшись с фактом утраты контакта с детьми, а также с фактом невозможности восстановить этот контакт принудительными и формализованными методами, почерпнутыми их книжек, люди начинают совершать первые со времен юной юности по-настоящему самостоятельные шаги. Да, люди могли уже стать талантливыми инженерами, успешными управленцами, но как люди, призванные войти однажды в вечность, они сделали еще очень мало, если не сказать – ничего (или почти ничего). И за периодом боли и охваченности чувством безысходности для многих незаметно и исподволь наступает период подлинной радости. Вынужденные встать на путь развития, люди начали познавать ближних, себя, законы мироздания.
Этот процесс познания можно описать как процесс выработки новых понятий или процесс формирования новых нейронных сетей, процесс формирования новой доминанты восприятия. На основе новых структур сознания возникает более полное и многогранное понимание действительности. Люди становятся способными понять, что, собственно, происходит в их жизни и в жизни их ребенка.
Родившаяся мудрость позволяет не только понять причины возникновения затруднительной ситуации, но и подобрать траектории ее разрешения. Так, развиваясь, родители становятся способными «на кончиках пальцах» прочувствовать ситуацию и не только прочувствовать, но и там, где это возможно, повлиять на нее. Им становится понятно, как, о чем и когда говорить с ребенком и говорить ли вообще, и если не говорить именно сейчас (потому что, например, ребенок встал в «позу» и в состоянии протеста отвергает любые обращенные к нему посылы), то – когда можно будет и поговорить.
Если родители готовы признать в ребенке личность, которая хоть и заблудилась, но которая в то же время имеет право на свое собственное мнение, то они уже не пытаются идти путем перечеркивания всей жизни ребенка (ты, мол, такой-сякой и все в твоей жизни «от и до» неправильно). Ребенок, со своей стороны, видя такое к себе отношение, становится готовым воспринять от родителей слова, совет и помощь.
Когда ребенок раскроется, родители не знают. Но если они сохраняют связь с ребенком на уровне личность—личность и сами в своей жизни стремятся к преображению своей личности, то они смогут почувствовать и личность другого. А значит, они смогу почувствовать момент, когда можно что-то сказать, чтобы быть услышанными, и почувствуют, что именно сказать.
И бывает, что в некоторых семьях родители и дети (или супруги – в отношении друг друга), пройдя полосу испытания, приходят к отношениям, основанным на качественно иных «вводных», относящихся к качественно иному уровню. Они становятся друг для друга близкими, друг друга любящими людьми.
Кризис выявляет и обнаруживает те содержания, которыми человек жил до кризиса. И преодолеть глубокий системный кризис можно только поднявшись над собой прежним.
Созависимость – правомочен ли этот термин?
Тот же, кто не готов пройти школу внутренних изменений, тот под воздействием внешних обстоятельств начинает деформироваться и разрушаться. Такого рода деформация в некоторых источниках может ассоциироваться с термином созависимости.
Здесь о проблеме, стоящей за данным термином, речь не будет вестись подробно: проблема излагается скорее в виде некоторых тезисов практического характера, выводимых из тех положений, которые приводятся к цикле лекций «Проблема отклоняющего поведения: родственникам, родителям, педагогам» (см. с 3-го пункта). Многие положения здесь остаются непредставленными даже в виде тезисов.
Под явлением созависимости понимается тотальное переключение, скажем, матери зависимого сына в жизнь сына, причем в столь интенсивном варианте, что жизнь матери словно теряет самостоятельное значение. В качестве комментария к такой ситуации можно привести следующий случай.
В многопрофильную клинику, в отделение челюстно-лицевой хирургии, поступил пациент с горловым кровотечением. У пациента были заметны признаки, если так можно выразиться, угнетения личности. Признаки выражались в рельефно проявляемой утрате этического сопровождения собственных поступков. Например, пациент сплевывал кровь в раковину и не утруждал себя смыванием крови, то есть оставлял раковину забрызганной кровью. Раковина же была общей для нескольких человек, находившихся в одной палате. То есть каким-то образом пациент не сопоставлял свой поступок с мыслью, что причиняет неудобство другим, и нельзя сказать, что наблюдалась какая-то рефлексия по данному поводу.
Эта нехватка этического сопровождения поступков не встречала значимой реакции со стороны сопровождающей его матери. Она пыталась комментировать и сопровождать любое его самое, казалось бы, незначительное действие, вплоть до похода в туалет (а речь, стоит отметить, шла о мужчине, биологический возраст которого был уже «не первой молодости»). Но при пошаговом сопровождении сына внимание к забрызганной им раковине тоже нельзя сказать, что наблюдалось. Что для матери, что для сына люди, находившиеся в палате, словно не существовали.
Через некоторое время выяснилось, что внутренние органы не повреждены, кровь истекала не из горла и из поврежденной десны. Зубы были настолько разрушены, что ими иссекались десны. И этот факт косвенно мог намекать и на степень поражения психики, раз мужчина не мог самостоятельно определить, что осколок зуба резал ему десну. «Он зубы у Вас вообще-то чистит?», – спросил женщину хирург.
Пациент имел вид человека, пораженного алкоголем. Не в отношении данного времени, а вообще, в принципе. Он был отрешен от происходящего, и мама словно поддерживала его в такой позиции. Она была словно его продолжением, словно его руками и ногами. Вопрос о поражении личности можно ставить в данном случае не только в отношении мужчины, но, возможно, и в отношении матери (мужчине был удален разрушенный зуб, и он был выписан).
Но насколько данная степень поражения личности актуальна для всех матерей или жен пьющих мужчин? Ситуация, обволакивающая жизнь этой женщины, сложна, и, возможно, в ее случае речь может идти действительно о диагнозе. Но приложим ли диагноз, который возможен в данном случае, ко всем женщинам, так или иначе проявляющим какую бы то ни было заботу в отношении пьющего человека? Насколько феномен поражения личности такого уровня вообще стоит связывать с темой зависимости мужчины? Не выступает ли здесь в качестве первичной причины регрессия самой женщины?
Нередко в отношении данных ситуаций предлагается такое объяснение: женщины, имеющие низкую самооценку, заботясь о другом, пытаются ее повысить. В связи, мол, с данной причиной жены заботятся о пьющих мужьях.
В отношении данного мнения в лекциях выдвигается иной посыл: утрата многогранного представления о человеке приводит к тому, что сложные многоуровневые проблемы начинают сводиться к упрощенным конструкциям (редукционизм; или как было отмечено выше: делается попытка адаптационную проблему женщины-матери, женщины-супруги решить механическими средствами). Забывается, что многие жены помнят, что их супруги когда-то были иными: веселыми, общительными, дарящими цветы. Жены надеются, что ядро личности, заваленное алкогольным хламом, вот-вот активируется, и в некоторых случаях оно действительно активируется.
Как было отмечено, в статье не будут в текстовом варианте дублироваться все идеи, изложенные в лекциях. Следующие ниже мысли не очерчивают всего круга проблем, связанных с термином «созависимость», скорее, можно сказать, что они продолжают начатый выше разговор о развитии личности. Стагнация личности, остановка в развитии, приводит к развитию феномена, который некоторые называют созависимостью. Но в реальности этот феномен вовсе не обязательно связан с фактом чьей-то зависимости. Если нет внутренней жизни, системы ценностей, то человек практически неизбежно подчиняется внешним ритмам, которые могут исходить из разных источников: деспотичного начальника, шумного коллектива, охраны тюрьмы или концентрационного лагеря.
См. также упомянутую статью «О развитии монашества, о теории «созависимости» и о прочих психологических подходах к решению личностных проблем» (статья упоминалась в связи с материалом, изложенным в том числе в главах «Нейрофизиология и любовь», «Услышать голос другого»).
В отношении термина «созависимость» в цикле лекций «Проблема отклоняющегося поведения: родственникам, родителям, педагогам», помимо прочего, ставился вопрос: стоит ли выделять проблему в специальный термин? Термин обозначает, что внешняя ситуация довлеет над человеком. Например, вся жизнь супруги сосредотачивается в пьющем муже. Он приходит трезвый – супруга радуется, приходит нетрезвый – печалится.
В рамках цикла происходит отход как от самого термина, так и от концепции созависимости. Ведь ситуация, когда внешние условия довлеют над человеком, может быть реализована в различных обстоятельствах. Есть термин – офисное рабство. Люди, работающие в офисе, думают о том, сколько работы они еще не сделали, и впадают в уныние. Люди, находящиеся в тюрьмах, думают о произволе охранников и впадают в уныние. Мамы думают о болезнях детей и впадают в уныние.
Супругу, которая думает о пьющем муже, называют «со-зависимой». Чтобы ей не думать о проблемах мужа, ей советуют отстраниться от мужа, отсечь его от себя и заняться собой. Если этот совет верен, тогда он подойдет и в случае с офисом, и в случае с тюрьмой, и в случае с ребенком. В этих трех случаях нужно отсечь от себя источник беспокойства и заняться собой (спортом, диетой, хобби).
Применительно к случаю заключенных, можно отметить, что опыт выживших в концентрационных лагерях людей показал, что выживали те, у кого было ядро личности (см. цикл лекций «Остаться человеком. Часть 3 (выживание): офисы, мегаполисы, концлагеря»). Если личность развивается, человек понимает, как относиться к тем или иным аспектам жизни (применительно к теме родственников можно сказать, что человек понимает, когда реагировать, когда – нет).
Обстановка не довлеет над ним. Он не закрывает глаза на жизнь. Все видит и понимает, но его сознание не разрушается тем, что он видит, так как внутри есть положительный перевес. На примере лагерей было видно, что, если люди пытались закрыть глаза на происходящее, они теряли понимание происходящего. Если в человеке появлялось личное (вертикаль), то он мог сопротивляться состоянию наваливавшейся апатии. Если человек жил на уровне горизонтали – «сон, еда, работа», – у него не было ресурса противостоять кризису.
«Личность, – как писал В. Н. Лосский в своей статье "Богословское понимание личности", – есть несводимость человека к природе». Речь идет о ком-то (личность не может быть до конца описана и исчерпана определениями), кто «природу превосходит», кто над природой «непрестанно восходит».
В практическом отношении эти слова с темой родственников зависимых можно соотнести следующим образом. Когда в человеке проявляется личное, обстановка перестает довлеть над человеком. Внешняя обстановка действует на человека через его органы чувств, но есть в человеке что-то, что помогает ему не впасть в панику, посмотреть на ситуации с иных точек зрения.
Общая для всех людей человеческая природа, как пишет Лосский в другой своей статье «О третьем свойстве Цервки», очищается и воссоздается Христом (см. разделы «Непреображенная природа человека», «Непреображенная природа и ее восстановление во Христе» в статье «Тирания мозга и преодоление ее: о выходе из состояния "тирании мозга" и преодолении того, что толкает человека к алкоголю»[106]), «дело Духа Святого обращено к личностям; Он сообщает каждой человеческой ипостаси в Церкви полноту благодати, превращая каждого члена Церкви в сознательного соработника, личного свидетеля Истины».
То есть вследствие приобщения к благодати Святого Духа у человека получается подняться над своей природой, подняться над обстоятельствами, которые порождают панику, подчиняющую сознание человека. Слова о Святом Духе – не риторика и не пустые слова. Они подтверждаются опытом людей, прошедших экстремальные обстоятельства жизни в концентрационных лагерях (см. вторую часть статьи «Преодоление травматического опыта» и лекции «Остаться человеком (часть 3). Выживание»; представление о некоторых основных идеях третьей части цикла «Остаться человеком» можно получить на основании ознакомления с лекцией «Ядро личности и доминанта души: основная идея третьей части цикла – "Остаться человеком"»[107]).
Людей, на многие годы заключенных в лагеря, следуя логике концепции созависимости, тоже можно назвать созависимыми. Надзиратели, ломая заключенных, проявляли садистские наклонности. Заключенные, испытывая боль и унижения, думали о боли и унижении все чаще и чаще. Все больше ненавидели унижающих их надзирателей. И в результате преобладания в сознании переживаний негативного характера из сознания выдавливалось все, что могло бы перевести мысли человека в иное, конструктивно-созидательно русло (если человек не боролся за возможность реализовывать свою жизнь в данном русле).
Сознание попадало в депрессивный коридор. Человек весь день на лагерных работах думал об унижении. И по инерции думал о том же, когда возвращался в барак. Жалуясь и унижая в свою очередь собратьев по бараку, он фиксировал себя и окружающих в охваченности депрессивным состоянием. Следующий день, проведенный в подобном режиме, закреплял навязанное внешней средой состояние. Депрессивное состояние становилось доминирующим режимом, исходя из которого нервная система реагировали на внешние раздражители и внутренние побуждения. Чем не «созависимость»?
Концепция «созависимости» инстинктивно пытается нащупать верное направление. Она понимает, что акцент восприятия должен быть смещен с травмирующего впечатления на что-то иное. Но на что именно?
Понятие Истины современный мир стремительно утрачивает. Приобщение к благодати Святого Духа для многих – пустые слова.
Для человека, утратившего вертикаль, стремление снять акцент с травмирующего переживания может привести к сосредоточению «на себе любимом». А что еще остается? Вот и советуют так называемым «созависимым» сосредоточиться на диете, спорте и внешнем виде.
Так и заключенные лагерей со временем теряли способность думать, кроме как о еде и о работе. Некоторым казалось, что, закрыв глаза на происходящее вокруг и сосредоточившись на еде, они сохранят свою психику от повреждения. Но в итоге они утрачивали способность сопереживать. За замыканием на себя следовало безразличие и утрата способности обратить внимание на что-то, кроме своих потребностей. Такие заключенные со временем превращались в «живые трупы», впадали в апатию и погибали.
Процесс сопротивления превращению в «живой труп» на примере опыта заключенных лагерей разбирался в цикле «Остаться человеком (часть 4)». Заключенные пытались сосредоточиться на том, что могло бы им помочь поддержать вертикаль. Кто не умел молиться, пытался писать стихи. Всеми силами заключенные, пытавшиеся не просто выжить, а остаться людьми, стремились не дать личному угаснуть. Любовь, сострадание были, как принято говорить, «магистральными» путями, двигаясь по которым, заключенные стремились данную задачу реализовать.
В концепции «созависимости» сострадающим родственника ставится диагноз, сострадание объявляется чуть ли не порочным. Надо дать зависимым упасть, чтобы, мол, оттолкнувшись от дна, они «поплыли» наверх.
У бойцов спецназа есть подобный прием. Если вертолет падает в озеро, нельзя покидать его во время падения. Если боец покинет кабину вертолета во время падения вертолета на дно, турбулентный след от падающего вертолета помешает бойцу плыть. Он будет бороться с турбулентным хвостом, растрачивая драгоценный кислород. Поэтому предписывается покидать кабину, когда вертолет ляжет на дно озера. Но что если вертолет падает на дно Марианского желоба? Да и не нельзя забывать выражение: «Я упал на дно и оттуда мне постучали» (то есть на дне был люк, под которым – ход, ведущий еще ниже).
Конечно, сострадая зависимому родственнику, человеку нельзя совсем переключиться вовне, на решение бесконечных внешних по отношению к личности человека проблем. Но и утратить способность сострадать – тоже опасно. Сострадание не должно также предполагать открытость для манипуляции со стороны зависимого, о чем см. «Наркомания. Состоятельному мужчине, угнетенному общением с братом-наркоманом»[108].
* * *
Когда человек близко к сердцу в отношении себя принимает слово «созависимый», возникает риск того, что он начнет делать культ из своей проблемы. Он начнет «прорабатывать созависимость», незаметно для себя уходя от здоровых остовов жизни. Трава пробивается сквозь асфальт не столько в силу борьбы с асфальтом, сколько в силу стремления к солнцу.
Концепция «созависимости» декларирует, что родственник зависимого, обратившись к концепции, найдет выход из своей проблемы. Но на практике речь может идти о банальном совете вычеркнуть зависимого из своей жизни, то есть выкинуть на помойку. Мол, всего лишившись, о чем-то, может, и задумается. А погибнет – туда ему, мол, и дорога. Если родственник зависимого деформируются вследствие общения с зависимым, выброс этого зависимого человека на помойку много ли поменяет?
Ведь многие люди, ставшие в рамках концепции «созависимыми», росли без ценностей, без мировоззрения. Если нет устойчивой системы ценностей и целостного мировоззрения, человек будет деформироваться при контакте с внешней обстановкой. И не столь важно, каковыми параметрами создается внешняя обстановка: действиями ли зависимого родственниками, действиями ли главы компании, действиями ли офицера СС в концлагере.
В концлагерях у людей наблюдались состояния, напоминающие состояния людей с зависимыми родственниками. Нарастали апатия, уныние и нежелание жить. Только офицеров СС заключенные не могли выбросить на помойку (к тому же они были лишены возможности заняться диетой, спортом и прочим подобным). Если у человека нет внутреннего ядра, он рискует во всех критичных ситуациях открываться навстречу апатии, унынию и нежеланию жить.
Технология, психология и идея эффективности
Сторонники идеи «созависимости» говорят, что выбросить на помойку зависимого – это эффективно. Но бесчеловечные технологии, вводимые в компаниях и загружающие человека сверхурочно (плюс домой присылаются электронные письма с требованием подготовить отчеты, графики и пр.), тоже строятся на идее эффективности. Это же эффективно – выжимать работника как лимон (сломается, компания нового наймет)! На разговорах об эффективности можно до гиблых земель доехать. Можно оправдать любое отступление от этики – ведь это же, мол, эффективно. Про одного диктатора говорят, оправдывая его: «Он, мол, был эффективным менеджером». Так оправдать можно что угодно.
В годы тоталитарного строя в СССР был введен институт заложников. Арестовывали не только провинившегося с точки зрения строя, а заодно и его родственников. Бесчеловечно? Но зато как эффективно! Почти никто и пикнуть не смел, зная, что в лагеря за его проступок пойдут его супруга и его дети.
Бесчесловечная среда современных офисов создается со взглядом на эффективность. До людей нет дела. Управленческие стратегии становятся технологией.
Технологией становится и психология, когда забывает о человеке. Психология становится дрессировкой, набором поведенческих предписаний. Родственникам предлагается участие в мероприятиях, которые «затачивают» на поведенческие механизмы, то есть дрессировку. По определению Экзюпери, «выдрессировать – значит, научить пользоваться тем единственным путем, который приносит пользу. Если ты хочешь выйти из дому, то, не задумываясь, поворачиваешь по коридору и находишь дверь. Если твоя собака хочет получить кость, она становится на задние лапы, как ты учил ее, и она мало-помалу усвоила самый короткий путь к вознаграждению. Хотя стояние столбиком, на посторонний взгляд, не имеет никакого отношения к кости» (заключенные в лагерях на определенном этапе, если утрачивали вертикаль и способность вчувствоваться в социальную ситуацию, начинали действовать как роботы-машины, по определенной программе, автоматически, без рефлексии).
