История всех времен и народов через литературу
Tekst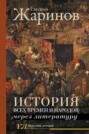


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 400 str.
- Kategoria: literaturoznawstwo, literatura historyczna
Надо сказать, что сам феномен денег может возникнуть только в очень развитой цивилизации, потому что по своей природе деньги – это некая абстракция, некая форма договора, форма общения, или языка. По этой причине деньги напрямую связаны с математикой, с одной из самых абстрактных наук в мире. Деньги связаны и с философией. Деньги – это некая абстрактная идея, не привязанная намертво к предмету. По этой причине на протяжении всей истории человечества деньгами могло быть что угодно: зерно и зерновой капитал Египта (Библия: притча о прекрасном Иосифе), скот, мешок, куда вмещалось ровно четыре десятка беличьих шкурок – отсюда и произошло слово «сорок», и т. д.). Вспомним Платона и его философию идеи, мол сама вода может быть какой угодно: она может стать паром, течь, превратиться в лёд, но сама идея воды всегда останется неизменной. Так и деньги. Конкретное их материальное воплощение может быть каким угодно, но сама их идея, идея общения, идея установления различных связей, остаётся неизменной. Это особенно заметно сейчас, когда деньги почти полностью перешли в виртуальный мир компьютерных технологий. Именно в эпоху Ренессанса флорентиец Козимо Медичи сделает всё, чтобы с помощью банковского капитала в буквальном смысле перепрограммировать Средневековье. И именно в эту эпоху математик Лука Пачоли, друг Леонардо да Винчи и художник, создаст дебит, кредит и баланс, то есть бухгалтерский учёт, без которого немыслимо ни одно банковское дело. Эта так называемая прикладная математика в основе своей будет иметь и учение о золотом сечении и числовой ряд Фибоначчи. И если Возрождение немыслимо без банковского капитала, то Средневековье к деньгам относится настороженно. Деньги – это дьявольский соблазн, подрывающий всю основу эпохи рыцарства. Не случайно благодаря Пушкину будет запущен такой оксюморон, как «Скупой рыцарь». Рыцарь и скупость – вещи несовместимые, потому что воин живёт другим: он не копит богатств земных, а собирает их на небесах желая, во что бы то ни стало попасть в воинство Христово и встать после смерти под знамёна архангела Гавриила, как великий Роланд.
Но свободный капитал, основанный на банковском деле, потребует расширения сфер влияния, и поколение новых пассионариев отправится открывать новые земли. Эпоха Великих географических открытий будет подобна эпохе выхода человека в открытый космос, и страны Западной Европы пустятся в самую настоящую гонку. Вместе с итальянцами в этой гонке примут участие и португальцы, и испанцы.
Данте был современником такого великого европейского путешественника, как Марко Поло. Но если венецианец создал свои путевые заметки в форме путешествия по географическому аду, то Данте описал собственные скитания в виде путешествия по аду души, по аду внутреннего мира человека новой, только ещё зарождающейся, эпохи, которая и найдёт одно из своих ярких воплощений в форме Великих географических открытий, продиктованных поисками торговых партнёров и источников сбыта товаров, пользовавшихся большим спросом в Европе.
Величие Данте сказывается в способности творчески почувствовать потребности ещё только зарождающейся новой эпохи, эпохи непрерывных скитаний и необычайной активности, с одной стороны, а с другой – органическое единство мира: «все во мне – и я во всем». В его главном произведении нет ничего случайного и ненужного. Космография, астрономия, математика, система мира Птолемея тесно сплетены у Данте с душевными порывами, с предчувствиями того, что ещё только зарождается, но ещё не явлено миру, с сердечными тайнами и самыми сокровенными мыслями. Одинаково знакомы ему «маленькая Флоренция», его родина, и «большая Флоренция» – вселенная. Причём и «Флоренция маленькая», и «Флоренция большая» переплетены между собой самым теснейшим образом. Данте с трудом может провести границу между одним и другим. Будучи выгнанным из «Флоренции маленькой» он оказывается на периферии всего огромного христианского мира, оказывается в пространстве Тёмного леса, наподобие моряков Колумба, отправившихся от берегов родной земли к мирам неведомым и вселяющим только ужас в душу человека, привыкшего жить по законам средневекового тесного христианского мира. Именно с упоминания этого мрачного пространства Тёмного леса и начинается «Божественная комедия».
В эпической и лирической поэзии Средневековья ночь была временем невзгод и приключений. Часто она связывалась с другим темным пространством – лесом. Лес и ночь, соединившись воедино, внушали ужас. Именно как первобытный ужас и воспринимал Данте своё изгнание. Его мощное поэтическое воображение родило ассоциативно-метафорическую связь между изгнанием из малой вселенной Флоренции и схождением в ад, а любовь к Прекрасной Даме Беатриче дало возможность увидеть в этом аду проблески божественного Света. Но прежде, чем Данте подойдёт вплотную к созданию главного произведения всей своей жизни, он должен был написать свою «Новую жизнь» как гимн духовного обновления.
«Рейнеке-лис»
Рейнеке-лис (Reineke Fuchs или Vos) – имя главного действующего лица одного из характернейших произведений средневековой эпики, известного во многих переделках и представляющего характеристику пороков и слабостей средневекового общества. В основе его лежат восточные (индийские) сказки о животных, проникавшие в Европу сначала путем греко-италийских преданий, а затем через Византию. Самая ранняя литературная обработка сказаний на сюжеты из животного царства составлена была около 940 года молодым монахом в лотарингском г. Туле (Toul), который этим трудом хотел искупить какую-то свою вину и потому назвал свою поэму «Ecbasis captivi», т. е. освобождение узника. Эта небольшая поэма, написанная гекзаметрами на датском языке, иносказательно, в виде истории о зверях, повествует о бегстве монаха из монастыря; в нее введена Эзопова басня о больном льве, который, по совету лисы, был исцелен свежей шкурой, снятой с волка. В начале XII века главные действующие лица басни, волк и лиса, вероятно во Фландрии, получили свои немецкие имена: Изенгрим («тот, который с железным забралом» – в переносном смысле суровый, свирепый человек) и Рейнгард (Reinhard, т. е. «сильный советом» – умник, пройдоха).
Отголоски его образа есть во всех фольклорах и культурах мира, ибо он воплощает собою весьма определенный социальный и культурный тип – тип трикстера, ловкача-пройдохи, плута и обманщика. Для мужчин и женщин Средневековья животное – это основной объект для страха или удовольствия, проклятия или приветствия.
В истории литературы это произведение уникальное, ибо «Роман о Ренаре» был собран клириками, а позже – историками литературы, на основе более или менее независимых фрагментов, объединявшихся многочисленными авторами в период приблизительно между 1170 и 1250 годами, образовав то, что называли «ветвями», то есть разными кусками, одного эпического цикла. По различным ветвям «Романа о Ренаре» можно восстановить более или менее связную сюжетную интригу, как это сделали Робер Боссюа и Сильви Лефевр.
Ренар ловко одурачивает петушка Шантеклера, синицу, кота Тибера, ворона Тьеселена; особенно же достается волку Изенгриму. Он подвергает унижениям его волчат, спит с его женой волчицей Эрсан и насилует ее на его глазах. Изенгрим и Эрсан приходят искать справедливости ко двору Нобля, короля-льва. Ренар избегает суда королевского двора, поклявшись исправить свои прегрешения. Избегает он и западни, расставленной ему волчицей и псом. Своими висельными проделками он вконец изничтожает волка. Снова призванный ко двору Нобля, он туда не идет и пожирает курочку Купе. Наконец все-таки отправляется ко двору, послушав настоятельных советов своего кузена, барсука Гримбера. Приговоренный к повешению, он избегает его, дав клятву совершить паломничество к Святой земле, но вскоре, освобожденный, бросает и посох, и крест, пустившись наутек. Пока король будет безуспешно осаждать его в его подземном замке Мопертюи (тут «mauvaise ouverture» – мерзкая дыра – означает «нора в земле», «логово» – ouverture du terrier), он совершает множество обманов и злых проделок, соблазняет королеву-львицу и собирается узурпировать королевский трон, принадлежащий льву. В конце концов, его, смертельно раненного, пышно хоронят к вящей радости одураченных им жертв, но он воскресает и готов начать свои проделки вновь.
С наступлением XIII века образ лиса Ренара все явственнее обретает черты сатиры, он все дальше от собственно животных характеристик, свойственных его начальной фазе, и – он дьяволизируется. Он отождествляется с figura diaboli и воплощает этот фундаментальный образ Нечистого, который все крепнет на протяжении всех Средних веков – как образ обманщика, образ лукавого. Популярность этого персонажа в городской среде позднего Средневековья говорит о том, что мир так усложнился, а тревога так возросла, что исподволь уже готовилось изменение главного Договора всей европейской цивилизации. Это договор с дьяволом, а не с Богом (Ветхий и Новый Заветы), который найдёт свое наиболее яркое воплощение в таком мифе Ренессанса, как миф о докторе Фаусте. Но до Фауста городская литература позднего Средневековья уже смогла создать образ обаятельного Зла.
Образ Рейнеке-лиса обладает так называемым отрицательным обаянием. Он вызывает неподдельную симпатию, о чём косвенно свидетельствует необычайная популярность этого произведения. «Роман о Лисе» пользовался во Франции чрезвычайною популярностью; имя главного героя – Renard – стало во французском языке нарицательным для обозначения лисицы, вытеснив прежнее ее название (gorpil, goupil). О дьявольском, демоническом начале этого героя-трикстера, героя-разрушителя нам говорят следующие факты.
1. Поэма «Le Gouronnemens Renart», написанная 3398 восьмисложными стихами во второй половине XIII века неизвестным автором, изображает коварство (renardie), господствующее над миром, и заключает в себе прямую сатиру на Jacobins el Freres Mineurs (т. е. доминиканцев и францисканцев).
2. «Renart le Nouvel» – поэма в 8 048 стихов, написанная в 1288 году; в ней отведено большое место аллегории (так, Ренар говорит о своем доме, «который устроен из измены, ненависти и зависти», и в котором шесть дам – Злоба, Зависть, Скупость и т. д. – встречают гостя песнями и подарками).
О том, что между Рейнеке-лисом и Фаустом существует какая-то типологическая связь, говорит и тот факт, что в XVIII столетии И. Гёте наряду со своим знаменитым и знаковым произведением «Фауст» создаст и поэму «Рейнеке-лис». Поэма была написана И.В. Гёте в 1793 году, в разгар Великой французской революции. Он сам в качестве приближенного герцога Веймарского участвует во французских походах австро-прусских войск. Напомним, что это историческое событие в монархической Европе воспринималось не иначе как конец света, а Наполеон, власть которого и была естественным завершением всего революционного процесса, воспринимался не иначе как антихрист. Революция представлялась Гёте как разрушительная стихия и вызывала в нём эстетический протест.
Средневековый театр
Наиболее массовой формой словесного искусства развитого Средневековья, по мнению Ю.Б. Виппера, стала драматургия. Возникнув в церковных стенах, она очень скоро выплеснулась на городскую площадь, привлекла широкие слои городского люда, причем не только в качестве зрителей, но и как непосредственных участников красочного, увлекательного театрального действа.
Средневековый театр развился из нескольких источников. Одним из них было церковное богослужение. Католическая церковь в течение многих веков беспощадно искореняла зрелища, которые возникали в народной среде, преследовала гистрионов-потешников, осуждала восходившие к языческим временам обрядовые игры. Вместе с тем, добиваясь максимальной выразительности и доходчивости богослужения, стремясь воздействовать на воображение и эмоции верующих, она сама стала прибегать к элементам театрализации. Отдельные отрывки евангельского текста перелагались в диалоги (тропы), завершавшиеся песнопениями хора. Сопровождавшие церковную службу ритуальные церемонии дополнялись пантомимическими сценами. Так сложились два основных цикла театрализованной церковной службы на латинском языке, которая получила наименование литургической драмы или литургического действа, – пасхальный и (несколько позднее) рождественский. Существование подобных литургических действ было ранее всего засвидетельствовано в Англии, затем в Северной Франции, несколько позднее в Германии и Италии.
Одним из первых образцов литургической драмы была сцена «трех Марий» (ее возникновение относится, по-видимому, к IX веку). Священники изображали беседу матери Иисуса и двух других Марий (Марии Магдалины и Марии, матери Иакова), которые пришли натереть благовониями тело распятого, с ангелом, сидящим у гроба и возвещающим им о воскресении Христа.
Пасхальному же циклу принадлежит и написанная в XI веке (по-латыни, но с несколькими вставками на провансальском языке) литургическая драма «Девы мудрые и девы неразумные». Воплощенная в аллегориях религиозная символика (девы мудрые обозначают собой праведников, обретающих место в раю, в то время как нерадивые нечестивцы отвергаются и осуждаются Христом) сочеталась в этом произведении с некоторыми бытовыми деталями. В конце появлялись черти (образы, с самого же своего возникновения заключавшие в себе элементы комической стихии), которые тащили грешников в преисподнюю.
К концу XII века литургическая драма уже почти повсеместно распалась. К этому времени сформировалась «полулитургическая драма». Своеобразие этого жанра заключается в том, что, находясь под контролем церковных властей и сохраняя характер образной иллюстрации к священным текстам, он перестает быть одним из звеньев богослужения. В исполнении полулитургической драмы вместе с клириками активнейшее участие принимают и миряне. Ее текст написан уже не по-латыни, а на народных языках. Этот тип драмы складывается, впитывая в себя наряду с церковными и другие влияния, в частности возрождавшиеся традиции античной драматургии.
Наиболее значительный образец полулитургической драмы – «Действо об Адаме», созданное между 1150 и 1170 годами. Здесь латынь звучала уже только в выступлениях хора, певшего свою партию, весь же остальной текст декламировался на старофранцузском языке. Произведение это (его постановка осуществлялась по принципу симультанного показа различных мест действия) представляет собой трилогию. Первый эпизод воспроизводит грехопадение Адама и Евы, совращенных Дьяволом. Второй изображает убийство Каином Авеля. В заключение следует явление пророков, предвещающих пришествие Мессии. Наибольший интерес вызывает первая картина «Действа…». Персонажи, выступающие здесь, уже обладают своим психологическим рисунком. Ева женственно суетна, любопытна и тщеславна. Адам грубоват, прямодушен и наивен; Еве не составляет особого труда настоять на своем. Особенно любопытна насыщенная достоверными жизненными штрихами фигура дьявола: последний наделен чертами вольнодумца и светского соблазнителя. Дьявол прекрасно знает женскую душу, тонко играет на слабостях Евы: восхищается ее красотой, сожалеет, что Адам ее недостоин, сулит ей, что он будет «властвовать над миром». Диалог между Дьяволом и Евой наличием психологических оттенков и изяществом слога вызывает в памяти страницы из куртуазного романа. Следует отметить и стихотворное мастерство создателя «Действа…». Реплики персонажей то и дело перерезают стих пополам, придавая ему легкость и динамичность. Автор умело рифмует последнюю строку в реплике одного персонажа с начальным стихом в тексте, произносимом другим действующим лицом. В целом же и в первой части «Действа об Адаме» доминирует религиозно-нравоучительное начало – мотив божественного возмездия за проявленную гордыню, за непослушание воле Всевышнего. Религиозно-догматические тенденции еще сильнее проявляются в двух других картинах «Действа…». Однако и в них местами находят себе выражение новые литературные и сценические веяния: например, стремление к злободневности (отказ Каина от жертвоприношения богу истолковывается как нежелание платить церковную «десятину») или к сценическому правдоподобию (Каин протыкает спрятанный под одеждой Авеля бурдюк с красной жидкостью, заливая брата «кровью»).
В XIII веке полулитургическая драма продолжает существовать, но оттесняется новым сценическим жанром – мираклем (от французского слова miracle – чудо), который получает особенное распространение во Франции. Сюжеты мираклей заимствовались уже не в Священном Писании, а представляли собой обработку легенд о деяниях святых и Девы Марии. Поэтому они давали больший простор, чем полулитургическая драма, для вторжения в театр светского мироощущения в виде интереса к психологическому анализу бытовых или авантюрно-романтических элементов. (Такого рода художественные возможности наиболее интенсивно использовались именно в XIII веке. Позднее, в XIV столетии, за исключением Италии, где к этому времени уже стала приносить богатые плоды культура Возрождения, в жанре миракля возобладали отвлеченно-моралистические устремления.)
Выдающееся драматургическое произведение XIII века – «Миракль о Теофиле» известного поэта Рютбёфа (около 1230 – около 1285). Это произведение (существенная часть его переведена на русский язык А. Блоком), по-видимому, было написано в 1261 году. Мы находим в нем первую литературную обработку сюжета, который получил в дальнейшем свое художественное воплощение в различных произведениях, посвященных доктору Фаусту. Это история человека, бросающего вызов Богу и ради того, чтобы овладеть земными благами, заключающего договор с дьяволом. Теофил, монастырский казначей, стремился жить по христианским заветам. Но Теофила так упорно преследовал епископ, его начальник, что существование героя стало нестерпимым. Тогда, вознамерившись взять от жизни реванш и проникшись честолюбивыми замыслами, он восклицает: «Бог на меня поднял руку, и я подниму руку на него», – и продает душу дьяволу. При содействии сатаны Теофил обретает власть и богатство. За это он должен вести неправедный образ жизни, быть жестоким и надменным, преследовать бедняков и вообще всех страждущих, творить зло. Через семь лет, однако, Теофил переживает горькое раскаяние. Он обращается к Мадонне со страстной просьбой простить ему прегрешения и вырвать из рук сатаны злосчастный договор, обрекший его на вечные муки. Мадонна внемлет его мольбам, Теофил, выполняя ее волю, публично признается в своем святотатстве, и епископ оповещает народ о совершившемся чуде.
«Миракль о Теофиле», который нередко называют «прекрасным поэтическим витражом», – вереница объединенных внешней драматической канвой стихотворений, в которых изобилуют смелые для своего времени и предвосхищающие манеру Вийона поэтические образы, весьма разнообразные по своему ритмическому рисунку.
Театр Средневековья проявил себя и в таком жанре, как фарс. Это жанр типично городской литературы. Именно городская жизнь с её своеобразной спецификой наполнила его сюжетами, темами, образами и создала благоприятные условия для расцвета фарса. Фарс писался для широких кругов горожан, отражал их интересы и вкусы (представители других сословий, в первую очередь дворяне и крестьяне, изображаются в фарсе не очень часто). Фарс оперирует готовыми типами – масками. Таковы плут-монах, шарлатан-врач, глупый муж, сварливая и неверная жена и т. д. В фарсе обличается корыстолюбие богатых горожан, высмеиваются индульгенции, разоблачается разврат монахов, клеймятся феодальные войны и т. д. Наибольшую известность получили французские фарсы XV века: «Лохань», «Адвокат Пьер Патлен» и др. Самым выдающимся фарсом, имеющим даже право на название настоящей комедии нравов и характеров, является знаменитый «Адвокат Пьер Патлен», написанный около 1470 года неизвестным автором, вероятно, парижанином и членом общества Базош, быть может Антуаном де ла Саль или Пьером Бланше.
Герой пьесы – адвокат Пьер Патлен – не имеет клиентов и бедствует вместе с женой, несмотря на все свои плутни. Он надувает мошенника купца, выманив у него кусок сукна, и помогает пастуху; хитрому мужику Анжеле, провести этого же купца, своего хозяина. Купец привлекает вора к суду, но Патлен научает своего клиента прикинуться идиотом и на все вопросы отвечать: бэ! Хитрость торжествует – и судья оправдывает вора; но мужик оказывается хитрее продувного адвоката – и на требования гонорара отвечает тем же бессмысленным мычаньем. Мораль буржуазной пьесы – торжество плута над плутом – не высока, но это не прямая безнравственность: это самодовольство грубого здравого смысла, наивная и беззаботная насмешка над обманутыми, характерная для всех фарсов.
Жанр фарса оказал большое влияние на развитие западноевропейского театра, особенно на комедии Мольера и итальянские комедии дель арте и др.
